Стужа - Венделин Шмидт-Денглер Страница 27
Стужа - Венделин Шмидт-Денглер читать онлайн бесплатно
«Достаточно услышать какое-нибудь имя, чтобы тут же отгородиться броней. Так, кому-то представляется такой-то человек, и на этом человеке уже поставлен крест. Он уже не сможет заявить о своих желаниях, ему уже не выбраться из ямы, в которую мы его затолкали. Как бы ни выказывал он потом себя перед нами, мы воспринимаем это как наглую саморекламу неугодного нам субъекта, чего-то элементарно неаппетитного. Вот и я, — сказал художник, — тотчас же с отвращением шарахался, стоило мне представить себе инженера, и тут же через люк отправлял его в яму. Еще когда я только услышал его имя впервые, меня чуть не вытошнило. С представлением об имени у меня сразу каким-то ужасным образом связалось представление о личности, и я понимаю, что не обманулся, столкнувшись с ним лицом к лицу. Никогда не обманываешься, когда, пожевав и выплюнув какое-то имя, видишь человека, который ему соответствует». Если же человека видишь прежде, чем узнаешь, как его зовут, то имя всегда окажется под стать. «Для того чтобы узнать, что за человек перед тобой, в большинстве случаев достаточно узнать только его имя, уж поверьте». В именах содержится всё, что необходимо знать. Чаще всего те имена, которые раздражают, образуют некую связь с человеком. «Человек, соответствующий своему имени, никогда его не подведет. Есть имена, от которых при первом же упоминании воротит сильнее, чем от самого тошнотворного порошка. Так случается, когда друг называет тебе имя одного из своих друзей, с которыми ты еще не знаком. Вы еще не наблюдали ничего похожего? Имена лепят людей».
Я как-то совсем забыл, для чего торчу в этой дыре. Забыл, что должен копить наблюдения. До меня это внезапно доходит где-нибудь в лиственничном лесу, когда я замечаю в художнике какую-нибудь странность, посреди дороги или в зале, когда он вдруг делает большой глоток молока, совсем как здоровый человек, в чем, правда, вскоре раскаивается. Это доходит до меня, когда я забредаю в дебри мыслей, которые своими истоками восходят к художнику, когда я совершенно отвлекаюсь от самого себя, удаляясь в зону чужого сознания. И я знаю, что мне не додуматься ни до чего иного, кроме вещей, которые я просто вижу. Нечто в этом роде я попытался объяснить ассистенту в моем сегодняшнем письме. Знаю я и то, какой здесь мрак, даже в солнечные дни. Какую боль причиняет мне порой слово, которое я произношу. Которое слышу от других. Бывает и такое. Я одиноко бреду через деревню и хватаюсь за суждения о людях, так оно и есть. А в небе, которое граничит «с ничем», не так. Стало быть, я — в аду и должен, собственно, помалкивать. Художник говорит, что это всё так непонятно, потому что человечно, а мир бесчеловечен, значит, понятен и глубокопечален. Он не разрывает это слово. Именно «глубокопечален», и так же это произносится для меня, его слово должно войти в души всех людей. Красота чревата опасностью так же, как тьма «раскрепощенностью страстей». Порой я просто иду на ту сторону, к сенному сараю, и представляю себе, как он там сидит и удаляет меня за пределы бытия просто одним только взглядом. И я снова вспоминаю о своей миссии. Собственно говоря, мне бы не помешало составить схему, что-то вроде таблички, и с ее помощью привести в систему всё, что относится к этому делу; ежевечерне перемещать какие-то величины с самого верха вниз, какие-то — с самого низа вверх, чтобы слишком высокое оказывалось слишком низким, и наоборот. Но ведь это, наверное, всего лишь видения, просто видения, которые даже систематизировать нельзя. Но почему система невозможна? В том, что касается моих наблюдений за художником. Разве я наблюдаю за ним? Я просто смотрю на него. Разве не наблюдаю, глядя на него? Ведь не могу же я смотреть, не наблюдая. А что будет потом? С довольно беспомощным видом я явлюсь пред ясные ассистентские очи и ничего путного сказать не смогу. Он себе думает, что через какое-то время я вернусь в Шварцах и выложу ему целый ворох наблюдений: видите, какая вырисовывается картина! Вот что он говорил! Я наблюдал по всем правилам! Ошибки исключены! Я не предполагал столь печального расклада, но это так! Понимаете?.. Нет, я уж точно не смогу и пары слов связать. Хотя всё ясно, как божий день. И еще какой ясный день! И тогда всё. И тогда воцарится молчание, всё упрется в тупик. И насколько иная получится картина, если я буду вычитывать ее из своих записей. Ибо в записанном нет правды. Никакая запись не передает истину. Ни на что не может претендовать. Даже на точность, даже если всё фиксируется при безупречном знании предмета, с ощущением полной ясности задачи. В лучшем случае картина будет менее искаженной. Но всё же искаженной. Какой-то иной. Стало быть, неистинной.
Я открыл дверь в его комнату и застал художника зарывшимся в газеты. Я увидел — а он сидел позади кровати перед картиной с пейзажем, который мне до сих пор не удалось истолковать, это было буроватое полотно с черными пятнами, которые можно было бы счесть домами, но с таким же успехом и деревьями, — я увидел только газету, но газета закрывала его. Не отрываясь от чтения и даже не взглянув на меня, он заставил меня опуститься в кресло, до которого я успел дойти. «Я читаю интересную статью о шахиншахском дворце в Персии, — сказал он. — Вы знаете, эти люди, должно быть, имели столько денег, сколько нам не под силу даже вообразить. Кстати, я прочитал сообщение о встрече министров иностранных дел России и Франции. Ситуация более чем странная. Вы, собственно, интересуетесь политикой?» — «Да», — подтвердил я, как нечто само собой разумеющееся для молодого человека. «Я-то уж совсем не интересуюсь, — сказал он, — этими, в сущности говоря, политическими махинациями. Но было время — не такое уж давнее, — когда я, точно голодный, набрасывался на всякую информацию политического свойства. Ведь, что ни говори, политика — единственно интересное в человеческой истории. Политика дает всему конкретное наполнение духа. Да, да! Теперь я, как вы знаете, живу анахоретом и слежу за всем лишь от случая к случаю. Но о совещании дипломатов вам непременно надо прочитать. И еще, если у вас есть желание, я бы порекомендовал вам, поскольку вы еще молоды и должны впитывать всё, статью о шахиншахском дворце. Вы ведь знаете историю "павлиньего трона"?» — «Да», — ответил я. «Тут о ней вкратце говорится». Газеты, по его мнению, — величайшее из чудес света, они всеведущи, и только благодаря им мир и вселенная действительно живы для человека, представление об универсуме не угасает лишь благодаря газете. «Вы всё еще не взяли у меня последние номера. Может быть, захватите?» В комнате было почти темно и так душно, что с трудом дышалось. Я решил тут же уйти. «Разумеется, надо уметь их читать, газеты, — рассуждал художник. — Их нельзя глотать наспех и нельзя воспринимать слишком серьезно, но всё же надо видеть в них чудо». До сих пор он еще не показал мне своего лица. «Чудо в том, что клочок бумаги несет информацию обо всем мире, и ты становишься сопричастным, если угодно, при этом не делая ни шага, может, даже не вставая с постели! Это ли не чудо? — воскликнул он. — Грязь, в которой обычно упрекают газеты, это грязь человеческая, а не газетная. Понимаете?! Газеты делают благое дело, показывая в своем зеркале человека таким, какой он на самом деле, то есть отвратительным!» Иногда, а стало быть, всегда и всюду через газеты можно разглядеть даже «красоту и величие человека. Чтение газеты — это, как говорится, искусство, овладение которым есть прекраснейшее из искусств, к вашему сведению». Тут он опустил газету на колени, но тем не менее я так и не увидел его, поскольку в комнате стало вдруг совсем темно.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.



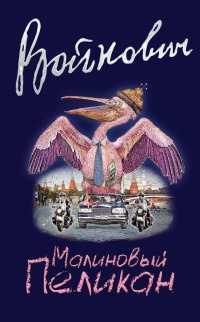

Комментарии