Жилец - Михаил Холмогоров Страница 26
Жилец - Михаил Холмогоров читать онлайн бесплатно
Ознакомительный фрагмент
Группы футуристов рассыпались, куда-то исчез, как сквозь землю провалился, полусумасшедший Хлебников, и только месяц спустя после возвращения Жорж узнал, что Велимир умер где-то в новгородской глуши в чудовищной нищете на руках у художника Петра Митурича. Незадолго до того в Москве и Петрограде среди знакомых поэта собирали деньги в помощь ему, и вот что странно: Велимир категорически запретил обращаться к Маяковскому. Жорж обиделся за Маяковского. Он-то мечтал, что приедет в Москву, и в доме его будут собираться все талантливые люди, и не старичье, как у Телешова, а наисовременнейшие деятели пера и кисти. А тут два великих футуриста – и такая вражда.
Но первая же встреча с Маяковским радости не принесла. Больше досады. Поэт встретил своего бывшего истолкователя с холодным равнодушием. Фелицианов остался в его глазах в преодоленном прошлом, оруженосцем желтой кофты, хотя к восемнадцатому-то году, когда состоялось их знакомство, он давно ее сносил и выбросил за ненадобностью. И вообще в Маяковском стало заметно надменное пренебрежение к былым своим адептам. Каменский, Крученых как-то помельчали около него и чуть отдалились, зато приблизился неприметный блондинчик Коля Асеев, он ловил каждое слово Маяковского, преданно заглядывая в глаза. Угодивши из бунтаря в пролетарские, точнее было бы – государственные – поэты, Владимир Владимирович тут же распустил в себе барина. С ним стало невозможно общаться на равных. И эта Лиля с буравчатыми глазками, она сортирует старых и новых знакомых, эдакий апостол Петр при вратах поэзии. После двух-трех встреч Фелицианов потерял всякую охоту общаться с Маяковским.
Вадим с футуристами давно рассорился, он теперь имажинист, но главенствует у них не он и не Толя Мариенгоф, а Есенин. Жорж его помнил в восемнадцатом году – это был русский такой херувимчик, оглушенный славой, но при всем том большой хитрец и лицедей. Сейчас это уже настоящий поэт, уверенный в себе и в тяжелом на смысл слове своем, хотя надрыв его как-то монотонен. Нет, это не новый Блок, далеко Арапке до тряпки. Тут Ариадна права, поэт для курсисток. Но пронзителен и глубок в иных своих догадках. Вот именно что в догадках, а так – надрыв есть, а трагедии нет. В общении же этот Есенин личность малоприятная. Особенно когда напьется. А такое с ним происходит все чаще и чаще. Он и раньше был по этой части не из святых, но сейчас алкогольная зависимость читалась с лица и почему-то особенно ярко в минуты, когда он трезв. В этих мокрых губах, тусклых тоскливых глазах. Пьяный, он становился непереносим, то лез целоваться, а то мог и оскорбить без всякого повода. А с его дурацкой женитьбой на Айседоре Дункан и спешным отъездом за границу группа имажинистов рассыпалась.
И Жорж как-то охладел к литературной среде, сильно измельчавшей в его отсутствие. Любой гений, когда его видишь вблизи, вписывается в гоголевскую галерею помещиков. На толкователя поэты смотрят, как Хлестаков на Осипа: пока голодный, ждет комплиментов и заискивает, чуть насытился, довольствуясь грубейшей лестью, уже и покрикивает. В каждом кружке, торжественно объявившем себя течением, с манифестами, лозунгами и даже уставами, мгновенно начиналась борьба за верховенство. Может, она и раньше была, в оставленной Москве девятнадцатого года, но тогда Фелицианов в энтузиазме свежих идей, новых мыслей не придавал значения всякого рода недоразумениям, неизбежным в тщеславном мире искусства. Сейчас же склоки, сплетни и борьба видов на коммунальном уровне лезут в глаза впереди стихов. И вот еще что: почему-то вокруг нынешних писателей вертятся странные молодые люди с фотографическими, меткими глазенками и навостренными на тень крамолы ушами. Будто приставлены к ним. ЧК лезет в душу. Нет уж, для этой публички свою душу лучше оставить в потемках.
Среди лета в городе начались аресты. Посадили Бердяева, Осоргина, Кускову… 3 июля позвонил доктор Бузинский:
– Взяли Брагина.
Новость вызвала приступ ярости у отца.
– Доигрался с народцем! Долюбился! Покажет ему народ! Извольте видеть – показал. Ох, Иван Николаич, Иван Николаич, сколько говорил ему – не лезь в эти дела! Помог голодающим Поволжья – вот тебе и благодарность от пробудившихся. «Ты проснешься ль, исполненный сил?» Хорошо еще, если ссылкой отделается куда-нибудь в Царевококшайск.
Почему-то в гневе отец бывал артистичен. И сейчас так передразнил несчастного Ивана Николаевича, что было трудно удержаться от улыбки, хоть и сдавленной.
Большевики уже приучили народ к террору. Аресты профессоров не произвели никакого шуму. Что бы поднялось, осмелься царское правительство тронуть хоть одну известную личность! А тут – как камень в болото, даже круги, кажется, не пошли. Главенствовала в общем настроении не одна только трусость, скорее – усталость. Устали сочувствовать, все равно бесполезно, расстрел так расстрел, чего еще от них ждать? Кстати, возникло новое слово – они. С нажимом. Так что если писать его – непременно курсивом. Устали ждать, когда наш черед придет. И даже бояться устали. Жоржа оскорбило равнодушие литературного мира. Говорили, будто Маяковский процедил сквозь зубы: «Так им и надо». Проверять истинность этой новости Жорж не стал.
А ссылкой Иван Николаевич не отделался. На Лубянке его продержали дней десять безо всяких допросов. А потом вызвали к какому-то чину и заставили расписаться в бумаге, где говорилось, что он выдворяется из советской России за границу. Пересечение таковой в обратную сторону каралось расстрелом. На том и выпустили. И еще два месяца несчастный профессор бегал по канцеляриям, пока его вместе с другими товарищами по несчастью не погрузили на пароход в Германию.
Проводы Ивана Николаевича в разоренной сборами квартире на Большой Ордынке напоминали похороны. Все понимали, что видят несчастного профессора права в последний раз, сколько бы ни привелось прожить каждому из сегодня присутствующих. Об эмиграции Брагин и не помышлял, он не представлял себя без России, и, хотя за выспренностью речей Жоржу подозревалась некоторая бедность мысли, он был искренен и наивен в патриотизме. И теперь, вышибленный из привычного уклада (а он и к новому, нищему укладу привык), Брагин стал как-то до слез трогательно и мил, и жалок.
– Ну что, что я им сделал? – недоумевал старик. – Имение сам, своими руками раздал. Деньги собирал на нужды голодающих Поволжья. Мужиков от бунта антоновского отговорил… Ленину все мало – душу ему, видите ли, подавай. Да ведь если отдам им душу, убеждения сменю – им же хуже будет. Это ж не я, Иван Николаевич Брагин, буду, а попка-дурак в моем обличье! Личности-то не останется.
– Ах, Иван Николаевич, очень этому Ленину личности нужны! Ему рабы бессловесные, скот двуногий нужен. – Андрей Феофилактович, бывший народолюбец и либерал, сильно поостыл в своих чувствах к русскому простолюдину. Нагляделся в девятнадцатом.
– Россия на личностях держится. И без личностей погибнет. Ведь кто-то должен эти массы просвещать, учить, двигать вперед.
– Они полагают, что без нас справятся с этой миссией.
– Поколения два на энтузиазме вытянут. А дальше?
– А что им дальше? После меня хоть потоп. Власть на них свалилась нежданно-негаданно, а временщик – это уж в его природу заложено – дальше своего смертного часа не заглядывает. Личность мешает беззакониям власти. А другого средства удержаться у большевиков нет.
Конец ознакомительного фрагмента
Купить полную версию книгиЖалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.


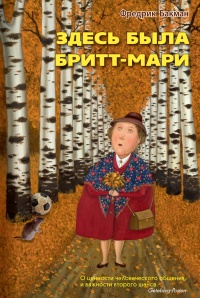

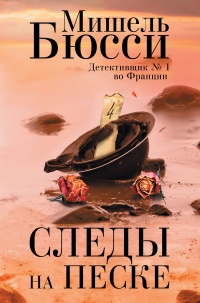
Комментарии