Начало, или Прекрасная пани Зайденман - Анджей Щиперский Страница 26
Начало, или Прекрасная пани Зайденман - Анджей Щиперский читать онлайн бесплатно
— Спасибо вам, — сказала она очень тихо, и он испытал наслаждение. — Всегда буду помнить этот день. И никогда, никогда ноги моей не будет в аллее Шуха.
Наверное, она была права, когда, сидя в клетке, воспринимала свое существование как мир, сохранившийся в памяти, лишь то, о чем помнила. Если жизнь была тем, что уже прошло, она была вправе допускать, что никогда не придет в аллею Шуха, а этот апрельский день навсегда останется в ее сознании. Но ведь жизнь — это также то, что еще не свершилось. Изнурительное движение вперед, до самого конца пути. В течение следующих двадцати пяти лет она ежедневно приходила в аллею Шуха и даже входила внутрь здания, в подвале которого находились клетки. И почти никогда не думала о том апрельском дне, о ночи, что провела за решеткой, ожидая смерти из-за идиотского портсигара с инициалами И.З. Ежедневно входила в здание министерства, где занимала важный пост, и даже не помнила, что в том же здании находится музей мученичества, а когда обстоятельства напоминали ей об этом, испытывала неприятное чувство. Ее жизнь была тем, что свершилось, правда, далеко не всем, что свершилось уже окончательно, а скорее тем, что до конца не свершилось, что находилось пока в стадии свершения. Это занимало ее мысли. Только на этом сосредотачивалось ее внимание. Порой снились ей мучительные сны, но не о войне и оккупации и даже не о докторе Игнации Зайденмане, который еще существовал где-то в ее памяти, в самых дальних уголках воспоминаний, но уже не как муж, а скорее как знак и символ прошлого, давно погребенного под пеплом, знак чего-то доброго и ценного, заполнявшего некогда ее жизнь, но потом отошедшего в тень, под натиском всего того, что совершалось лениво, в каком-то страдании, ожидании, горечи, но это страдание, это ожидание и было смыслом всего того, что заполняло все мысли Ирмы Зайденман, потому что была она женщиной активной, честолюбивой, умной, ей хотелось лепить действительность собственными руками, ощущать кончиками пальцев не только ее шероховатость, но и гладкость, в которой тоже не было недостатка, особенно в те минуты, когда что-то наконец все же свершалось, чтобы в свой черед уступить место делам еще не свершившимся.
Временами она с удивлением замечала, что скрыт в ней некий необычный инструмент, который резонирует неправильно, подобно треснувшей скрипке. Возможно, думала она спустя много лет, будучи уже очень старой женщиной, возможно, трещина в этой ее скрипке появилась как раз во время войны, в ту ночь, проведенную в клетке в аллее Шуха, или еще раньше, летом 1938 года, когда на рассвете она услышала по телефону, что ее муж, доктор Игнаций Зайденман, только что скончался. Что-то звучало фальшиво в том инструменте, и Ирма знала об этом, так как ее ощущение жизни было очень гармонично. Когда она расчесывала седые, как бы не совсем чистые волосы, что под старость часто бывает у светлых блондинок, и рассматривала в зеркале свое морщинистое лицо, сидя в уютной, солнечной комнате на авеню де ля Мотт-Пике, или когда просматривала газеты на террасе кафе на авеню Боске, где почти каждый день пила citron presse [37], одинокая, старая еврейка на парижской мостовой, итак, когда все это происходило, спустя тридцать лет после того дня, когда Штуклер разрешил ей покинуть здание гестапо вместе со стариком Мюллером, она совсем не помнила ни Штуклера, ни зарешеченной клетки, а только небольшой кабинет с письменным столом цвета темного меда, двумя телефонами, пальмой в горшке у окна, ковром, обтянутыми дерматином креслами, тот небольшой кабинет помнила превосходно, помнила лицо секретарши, пани Стефы, но более всего — лица тех троих мужчин, которые вели себя грубо и издевательски, тогда, в апреле 1968 года, когда они явились в кабинет, чтобы ее оттуда выгнать. И теперь, уже старой женщиной, на парижской мостовой, она совсем не помнила или, может, не желала помнить, что во время войны, в том же самом здании угрюмо повторяла: «Меня зовут Мария Магдалена Гостомская, я никакая не Зайденман! Я вдова офицера, а не еврейка!» — этого события она совсем не помнила, зато помнила совсем другое событие, в том же здании, может, даже на том же этаже, теперь трудно вспомнить, совсем, стало быть, другое событие, когда она язвительно сказала тем троим, ироничным и несговорчивым, что совершенно не собирается беседовать с ними, что намерена говорить со своим руководством, с людьми, которые несут ответственность за эту страну, а уж те, несомненно, сумеют понять и ее ситуацию, и ее позицию, невзирая на идиотский факт, что ее зовут Гостомская-Зайденман, Ирма Гостомская-Зайденман. Те трое согласно кивали, а один сказал: «Ладно, ладно! Не надо терять время…» Она забрала сумочку, но, когда протянула руку за папкой еще не просмотренных документов, как обычно делала, уходя из своего кабинета, чтобы дома еще немного поработать, один из мужчин демонстративно сказал, что дела следует оставить, что нет нужды захватывать дела. «К этому уже нет возврата, моя милая…» — сказал он. И оказался прав. Возврата не было. Но потом, спустя годы, она сознавала, что тот внутренний инструмент испорчен, что звучащая в ней нота фальшива, поскольку Штуклер возникал как едва уловимая тень, Штуклер был призраком, символом, инцидентом, в то время как те трое, что пришли тогда и не разрешили ей захватить папку, и пани Стефа, которая отвернулась лицом к окну, когда Ирма в сопровождении троих мужчин проходила через секретариат, были действительностью, жизнью свершившейся до конца, но прерванной столь резко, в течение одной минуты, жестоко и подло. И помнила она только это. Не помнила Штуклера, Мюллера, пана Филипека и Павелека, не помнила доктора Адама Корду, а лишь тех мужчин в кабинете, силуэт пани Стефы на фоне окна, и еще заплывшие, обрюзглые и неприязненные лица тех, с кем она говорила потом, руки таможенников на ее багаже, документах, книгах и блокнотах, только все это помнила она, сидя перед зеркалом в комнате на авеню де ля Мотт-Пике, старая женщина, одинокая еврейка на парижской мостовой, которая ощущала Польшу в своем горле, как тампон, как кляп. Не раз говорила себе: «Я несправедлива. То была моя родина, значит, я несправедлива!» Но уже через минуту — глотая с трудом citron presse, с облегчением добавляла: «А зачем мне быть справедливой, если я — старая, обиженная баба, у которой все отняли только из-за того, что зовут меня Ирма Зайденман?» И ей уже не хотелось быть справедливой. Ведь каждый вправе быть несправедливым, если Бог ниспослал ему несчастье.
Но когда она шла в сторону улицы Кошиковой, опираясь на руку Иоганна Мюллера, то не знала еще, что на протяжении двадцати пяти лет, которым только предстояло наступить, ежедневно будет перешагивать порог здания в аллее Шуха, что впоследствии покинет его столь парадоксально комически и жалко, ибо ее еврейство, из-за которого она сегодня чуть было не осталась в этом здании навсегда, явится потом причиной ее ухода оттуда, так же как ее нынешняя польскость, которая помогла ей сегодня отсюда уйти, в будущем, несомненно, явилась бы основанием остаться. Когда она шла, опираясь на руку Мюллера, не знала еще, что через тридцать лет, расчесывая грязно-седые волосы в комнате на авеню де ля Мотт-Пике, будет фигурой трагической, но трагической совершенно по-иному, чем сейчас, на углу Кошиковой, когда чудом уходит от смерти в здании гестапо в аллее Шуха. Все это было ей не известно, она еще не знала своих мыслей, чувств, снов, которым предстояло возникнуть потом, в мире совершенно ином, лишенном всяческих связей с действительностью, окружавшей их обоих — Ирму и Мюллера, — когда они входили в маленькую кондитерскую, садились за столик, заказывали пирожные у высокой, смуглой официантки, к которой Мюллер обращался: «Уважаемая пани», поскольку та совсем недавно была женой известного писателя и знаменитой на всю Европу пианисткой, а вскоре должна была стать трупом безымянной женщины, погребенной под руинами.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.



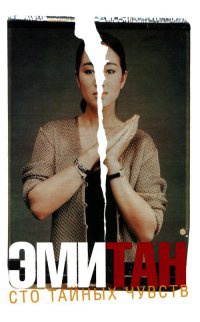
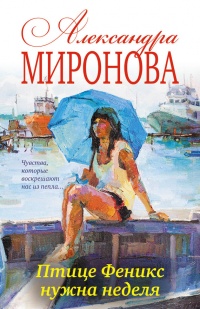
Комментарии