Зверь дышит - Николай Байтов Страница 24
Зверь дышит - Николай Байтов читать онлайн бесплатно
Разгадка — спасение от сумасшествия: ты уходишь от агрессии события, когда квалифицируешь его.
Настоящие происшествия — только те, которые грозят сумасшествием?
— Ну, неправда, — усомнился Миша. — Мне претит вечно занимать фиксированную позицию скептика, но всё-таки обрати внимание, что ты торчишь в своём «художественном» мире, а с точки зрения физики, например, каждое взаимодействие элементарных частиц является событием в космосе, во времени. То есть космическое время, по сути, и складывается из этих событий. Они суть его ткань. Частицы выполняют программу по развёртыванию мира, и им дела нет до нашего сумасшествия или здравого ума. Им наплевать, представляют ли они для нас загадку или уже эта загадка разгадана… А много или мало событий происходит — это субъективная оценка наблюдателя. На самом деле их происходит ровно столько, сколько нужно для того, чтобы время не прерывалось.
— Так, значит, всё-таки космос — мертвец?
— Не знаю. Это тоже взгляд наблюдателя, причём замороченного символическим шаблоном.
Гога — уже умерший — стриг мне ногти на ногах. Это было в какой-то бане, что ли. Причём, у меня были на ногах ещё некие чешуйчатые наросты, которые он тоже состригал, и текла кровь. Много крови, целая лужа вокруг, но боли не было, только неприятное ощущение от соскребания ороговевших кусков кожи. Кровь струилась ручьями по ногам и капала на пол. Я был голый и кричал от ужаса, задирая ноги вверх. Но потом Гога включил какой-то душ, и сразу вся кровь смылась без следа — ноги стали чистыми и гладкими. Там ещё стояли и на всё это смотрели почему-то женщины — Таня с Нолой и какая-то третья. Знакомая, но кто — не могу вспомнить. Они смотрели, но ничего не говорили, и непонятно, что думали или чувствовали. Я их очень стеснялся. И наконец проснулся.
Вот тогда-то я впервые увидел ту женщину, которая стала впоследствии знаменитой Иоанной Конь. — Маленькая, как девчонка, с белобрысыми жиденькими космами (это потом она стала носить чёрные парики), в пыльной майке и джинсах, перепачканных мелом, она вышла следом за мной на солнце из боковой двери дворца и окликнула меня: «Эй…» Я обернулся. Наверное, она слезла с внутренних лесов. Прежде — среди работающих в громадном, почти пустом параллелепипеде — я её не заметил. Она стояла передо мной, и в руках у неё были кое-как собранные листки с моими стихами, которыми я застелил кирпичи, когда сидел, да там и оставил.
— Вам это не нужно? — спросила она развязно-насмешливо. — Нет? Тогда я возьму себе.
— Да ради бога… — Я пожал плечами. Мало ли каких причудливых художниц ни попадалось мне на веку. Если вникать во все их причуды — это я уже знаю, — то собьёшься с самого себя и потонешь в мелком хаосе. Так думал я, совершенно не чувствуя и не предвидя того, что на этот раз происходит.
Потом она создавала о себе легенды. Чаще всего она рассказывала, как была учительницей в школе. Причём в незапамятные времена. То она преподавала музыку (фортепьяно), то географию, то физику. Одновременно с этим она ездила в фольклорную экспедицию в Сибирь, где записывала частушки, пытаясь обнаружить в них следы посещений инопланетян. И якобы защитила на этом диссертацию. Но она никогда никому не сообщала, что на самом деле она была художницей, причём, как я подозреваю, заурядной и неудачной. Я свидетельствую об этом определённо, потому что встретил её именно в этой ипостаси. И почему-то я думаю, что с этого момента (когда она подобрала мои листки) для неё всё и началось: она стремительно прославилась на поприще поэзии и мифомании (да, Миша, я не оговорился: не нимфомании, а именно мифомании).
В ту осень Гога с Блезе и Елезвоем подрядились реставрировать некий полуразрушенный дворец близ Ниццы. Пожалуй, дворец — это сильно сказано: не дворец, а типа виллы. Увитой виноградом — не одичавшим, а самым что ни на есть садовым. Десертного, по-моему, сорта. Так что в конце сентября с южной террасы, окружённой балюстрадой, свисали тяжёлые, многокучерявые грозди. Их никто не рвал, кроме реставраторов, да и те — вместе с гостями — не могли съесть и десятой части… Я заезжал к ним на один день, когда ехал к Ноле в Турин, и поскольку я стремился туда, постольку эта первая встреча с Иоанной прошла для меня вроде бы незамеченной. Однако же впоследствии я её вспомнил со стереоскопической отчётливостью…
«Меня зовут Иоанна Конь. На это ты можешь положиться. Если же окажется, что это неверно, то в будущем тебе никогда не следует верить мне».
Смерть Гоги произвела мощное действие. Ибо я отнёс её конкретно к себе. Но это давно. С тех пор всё забылось, замылилось.
Предметы моих рассмотрений гораздо существенней и вместе с тем туманней, чем у концептуалистов. — О чём это он? Кого имеет в виду? — концептуалистов вообще или московскую школу таковых поэтов? — А хрен его знает. — Если говорить о предметах концептуализма, то это рефлексия по поводу высказывания и рефлексия по поводу этой рефлексии. — Он хочет сказать, что его рефлексия глубже. — Ну, не знаю. Рефлексия московских концептуальных поэтов достаточно глубока и достаточно-таки туманна… — Кому достаточно и для чего? Тебе хватает, а может быть, кому-то она совсем мелка и прозрачна. То есть тривиальна. Вот он и говорит, что… — А сам он что? Куда он её углубил или усугубил? Ты видишь? — Нет. — Я тоже нет… — Нет, он настоящий художник: ему бы только своё семя бросить в мир, а что с тем семенем будет, его не интересует…
Они повинуются шмону, казалось бы, скромно и просто. Но вмиг их усердью смешному зловещее сдёрнет юродство. — Шестёрка червонная в ухо соседу, раскрашенной даме, шипела: «Смотри, если, сука, падёшь на метлу ты с ментами!» И дама с угрозой нарочной во взглядах протяжно-печальных поёт: «Ну вы что, я хороший! я смирный! Сыграем, начальник!» —
Читал энтузиаст наизусть.
Вчерашний день часу в шестом зашёл я на Сенную. И безнадёжно влюбился в Надежду Толоконникову, как кто-то когда-то в Зою Крахмальникову.
Скоро конец. — Миша отложил в сторону страницы. Вся эта писанина его раздражала, но он бы не решился отчётливо ответить — почему. На что нет ответа, о том нельзя поставить и вопрос, — Миша помнил это обычное внушение Людовика. У него, плюс к тому, был в уме общий принцип: кто на что-то решается, тот дурак. Но он, где-то сбоку, учитывал и то, что общим принципам следуют тоже, по сути, одни дураки. Так вот и висел он в некой случайной точке поднебесной и от этого ощущал постоянный дискомфорт.
Впрочем, всё равно никто ничего так и не спросил.
Ты забылся. А без тебя там пылает печка. Надо посмотреть: что и как там прогорело. Может быть, там неправильно горит, надо передвинуть дрова и подбросить новых, чтобы в перспективе всё сгорело одновременно — тогда поворошишь угли и закроешь трубу. Но ты забылся.
Через какое-то время вскакиваешь, всовываешь холодные ноги в холодные тапочки. Зажигаешь свет. Что нужно сделать? — забыл. Нужно посмотреть печку. Она пылала, а теперь, наверное, погасла и остыла. Но я определённо забыл что-то другое, очень важное. И я не знаю, куда мне за ним идти. На холодную террасу? — там никого нет и не может быть. Может быть, я там найду какие-то книги. Зажигаю свет — там висит картина Гоги, написанная по мотивам романа «Палисандрия». Для чего, когда — кто знает теперь?..
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.




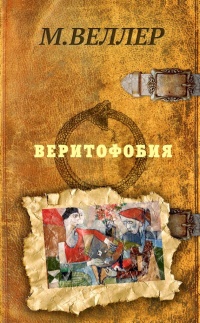
Комментарии