На примере брата - Уве Тимм Страница 24
На примере брата - Уве Тимм читать онлайн бесплатно
Каким чудом вопреки столь неблагоприятным предпосылкам девочка не выросла злюкой, как она стала моей матерью, этой приветливой, доброй, ненавидящей всякую ложь, внешне хрупкой, но удивительно стойкой и даже крепкой женщиной, от которой исходила такая оберегающая сила, особенно в любви, щедрой и всегда беззаветной?
Я остался на несколько дней в Гамбурге, приходил ее кормить, осторожно, дождавшись от нее кивка, просовывал в рот ложечку с кашей. Жевать она не могла, только глотать, и то медленно. Когда я приходил и потом, когда прощался, она пожатием пальцев подавала мне наш условный сигнал, наш давний код полного взаимопонимания.
А потом, как-то утром, я не обнаружил ее в палате. Ее перевели, сообщила соседка. Почему? Этого соседка не знала, но за ее незнанием, так я почувствовал, таится что-то неприятное.
Итак, маму перевели. В приемном покое, когда ее доставили, то ли решили, то ли понадеялись, что у нее частная страховка, и поместили в соответствующее дорогое отделение, под опеку главного врача. А страховка у нее оказалась самая обычная, компенсационная. Поэтому теперь ее перевели по назначению, в шестиместную палату. В моих глазах нет красноречивее свидетельства о наших временах и нравах, чем этот перевод по назначению после стольких лет беззаветной трудовой жизни.
Больница, больничные порядки, виды страховок. Я спросил, сколько стоит палата в отделении для частных пациентов. Цена оказалась немаленькой. Я призадумался. Вдобавок ко всему, как мне тут же сообщили, и за все дальнейшие исследования и анализы тоже придется платить. Были названы суммы, которыми я просто не располагал. Так мама и осталась в шестиместной палате. Она заметила мое огорчение, мой гнев, да и мой стыд оттого, что я не в силах что-либо изменить, что не смог избавить ее от унизительного перевода по назначению. Она только пожала мне руку и через силу, половиной рта, попыталась улыбнуться.
Примечательным в этом переводе оказалось то, что ее с первого этажа переселили на второй, туда, где пятьдесят один год назад она произвела на свет меня. А еще — палата оказалась просторной и солнечной, с замечательными медсестрами, и ей там было очень хорошо. Она слушала смех, разговоры соседок, а еще все те, иной раз поразительные, истории болезней, которые, как и все истории на свете, повествуют о жизни.
Я сидел возле ее койки и время от времени поил ее из клювика поильника. Вокруг соседней койки собралось испанское семейство. Там оживленно беседовали и много смеялись. Посетители с аппетитом уплетали ветчину и оливки, прямо руками отрывая куски от длинных батонов и заворачивая их в ветчину. Угощали и меня.
Меня поразило чувство покоя и глубокого облегчения, исходившее от матери, поэтому я снова и снова слегка пожимал ей руку, лишь бы побудить ее к столь радостному для меня ответному пожатию. По большей части я молчал, иногда рассказывал ей о доме, детях, о Дагмар, о моей работе. Она лежала и смотрела в окно. Голова после инсульта слушалась ее плохо, клонилась набок, но в окно смотреть она могла. Наверно, сестры специально выбрали для нее эту койку, чтобы ей не смотреть в глухую стенку. Время от времени она своей правой, не потерявшей чувствительности рукой трогала левую, тоже теплую и полную жизни, но ее она совсем не ощущала. А потом, о господи, она зевнула, — она, прежде при всяком зевке прикрывавшая рот рукой, как бы слегка его прихлопывая, зевнула так, как мне еще не приходилось видеть. Зевнула во весь рот, внутри которого инородным телом сам по себе двигался язык, большой и синий.
Солнце. Окно. Рука. Руки. Две руки. Пальцы, веко. Звук, тяжкая работа издавать звуки. Труд сказать «завтра», непомерный труд сказать «послезавтра».
Постепенно она как-то оправилась, уже могла произносить несколько слов. Что осталось при ней, даже в такой немощности свидетельствуя о полной ясности ума и трезвой оценке окружающего, — это ее юмор. Как-то после обеда я пришел в палату и застал всех остальных пациенток, глубоко пожилых женщин, в крайнем возбуждении. Опять ночью в палату заходил мужчина, какой-то старик, который якобы давно уже по ночам в женском отделении «колобродит». Мать, очевидно, все прекрасно понимая, только покачала головой, здоровой рукой слегка постучала себя по виску, а потом сделала движение, которым всегда изображала глупую болтовню, что-то вроде открывающегося клювика большим и указательным пальцем. С превеликим трудом, с третьего раза, ибо первые два я не разобрал, до меня дошла ее реплика:
— Им бы так хотелось...
Вошла медсестра, на мой вопрос заметила только:
— Ах, это старикашка Элерс, да какой он ходок, у него если что и заходит, так только ум за разум.
Я уехал обратно в Мюнхен. Несколько дней спустя маму выписали из больницы. Сестра моя за ней ухаживала, приходила и патронажная сиделка. Я звонил сестре.
— Маме уже лучше, она начала понемногу двигать пальцами правой руки. Погоди-ка.
Я услышал в трубке шорох, а потом лепет. Всякий раз было ужасно больно — куда больнее, чем видеть ее, — слышать этот беспомощный лепет вместо ее столь близкого, столь родного мне звонкого голоса, вместо ее заливистого смеха, кончавшегося обычно счастливой присказкой «ой, не могу». Теперь она не смеялась. И я ничего не понимал. Когда я был рядом с ней, мы, несмотря на всю плачевность ее состояния, могли общаться с помощью знакомых мне жестов, мимики, всего того, что тянулось ко мне из детства воспоминанием о самой тесной, какая только мыслима, душевной близости, а еще — пожатием наших рук, нашей тайной азбукой Морзе.
Месяц спустя я навестил ее дома. Она лежала на своей кровати, той самой, на которой прежде, когда я к ней наведывался, полагалось спать мне. Сама она переселялась в гостиную и спала на раскладушке. Я с куда большим удовольствием спал бы — и куда лучше высыпался — как раз на раскладушке, благо у нее нет спинок ни в ногах, ни в изголовье. Но мама настаивала, она хотела спать только на раскладушке, а свою кровать, лакированный рыдван цвета слоновой кости, уже застеленный чистым бельем, с двумя подушками, одна в головах, вторая в ногах, чтобы я не бился ногами об спинку, уступала мне. За ночь пух в одеяле, словно в мешке, валиками сбивался к ногам, а сверху оставался один пустой пододеяльник.
Теперь на кровати лежала она, а я спал на раскладушке. Сестра выгладила мне рубашку, белую, два нагрудных кармана, роговые пуговицы, — ту самую, американскую, которую обычно, когда я приезжал, мне гладила и мама, приговаривая, что материалу этому сносу не будет, он как парусина, такой же прочный. Сестра повесила рубашку на шкаф против кровати. Мать с кровати смотрела на рубашку и что-то бормотала, а что, я разобрал, лишь несколько раз ее переспросив:
— Рубашка мне нравится.
Лишь много позже я сообразил, что она, наверно, хотела, чтобы ее в этой рубашке похоронили.
Вскоре после этого с ней случился второй удар, и ее снова положили в больницу. На следующее утро, раным-рано, позвонила медсестра из реанимации и сообщила, что матери очень плохо.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.



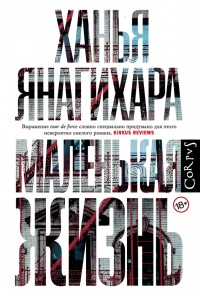

Комментарии