Три прозы - Михаил Шишкин Страница 24
Три прозы - Михаил Шишкин читать онлайн бесплатно
Ознакомительный фрагмент
– Здесь нечего больше ждать, – повторяла Маша, закрыв глаза, сжимая ладонями виски, – на этой стране лежит проклятие, здесь ничего другого не будет, никогда не будет, тебе дадут жрать, набить пузо до отвала, но почувствовать себя человеком здесь не дадут никогда, жить здесь – это чувствовать себя униженным с утра до ночи, с рождения до смерти, и если не убежать сейчас, то убегать придется детям, не убегут дети, так убегут внуки.
Вечерами, когда замолкала лесопилка, в квартире становилось тихо, сумеречно, тревожно. Поскрипывало соломенное кресло, цокало перо о чернильницу, в открытое окно вливались запахи резеды, табака и гелиотропа, перевернутая страница незаметно возвращалась на свое место, из-за реки доносились пьяные песни фабричных, луна напоминала косточку лимона, вниз у, в квартире этажом ниже, надрывался ребенок, высоко по краю темнеющего горизонта бесшумно ползла гусеница с желтыми пятнами, это ехали северяне на юг, к морю, в Ялту, Евпаторию, Сухуми, Новый Афон.
Иногда приходил Юрьев, бледный стройный блондин, молодой офицер, только что выпущенный, служивший начальником отряда в местной колонии.
Юрьев приносил Маше охапки полевых цветов, непритязательных, подкупающих, дурманящих.
– Такую красивую женщину, Евгений Борисович, как ваша супруга, – говорил Юрьев, пряча ее руки в свои и прикладываясь к нежным запястьям обветренными губами, тогда Маше становилась видна красная полоска кожи на лбу от узкой фуражки и не по годам ранняя плешь на темени, – нужно баловать, вы слышите, баловать!
Он усаживался на табуретку у окна, солнечные пятна бегали по его белому кителю, обжигая форменные пуговицы.
– Ну и жара сегодня, – говорил Юрьев, обмахиваясь фуражкой и вытирая шею несвежим платком. Когда вытягивал из кармана брюк платок, на пол всегда что-то выпадало: хрусткий коробок, пружинистая шпилька, стержень в проволочной оплетке – заключенные любят мастерить, плести, рукодельничать.
– Ей-богу, вы счастливчик, и похоже, сами того оценить не можете в полной мере, – продолжал гость, обращаясь к Д., но глядя на Машу, которая искала глазами ножницы, чтобы обрезать стебли. – Ваша жена удивительная, обаятельная, образованная и вынуждена скучать здесь в этой заплесневелой башне. Что за странное желание жить поближе к небу? Ну-ка, признавайтесь, когда вы в последний раз приглашали Марию Дмитриевну в ресторан? А в консерваторию? Молчите. А когда вы в последний раз сказали ей: пойдем, ты выберешь себе любое платье, какое захочешь, – не помните? Вот вы ее не балуете, Евгений Борисович, а потом локти будете кусать в один прекрасный день. В один прекрасный день. Вот увидите.
Юрьев встал, снова подошел к Маше, еще раз поцеловал ее ладони.
– Природа одарила вас, Мария Дмитриевна, вкусом и инстинктом красоты, – продолжил он, заложив руки в карманы и становясь то на каблуки, то на носки. – Легкая небрежность в одежде придает вам особую прелесть, вы хорошо сложены, ваша неприступность – это то, что манит в женщине. Худая, гибкая, стройная, грациозная, с изящными, в высшей степени благородными чертами лица, во взгляде светится молодость, красивая, гордая. А походка! Vera incessu patuit dea!
– Не умничайте, – бросила Маша, охватив руками плечи и сев резко на диван. Она вдруг вспомнила, что забыла сегодня по пути домой зайти в аптеку и купить ваты. Диван был продавленным и залатанным, но скрипучим и звонким, будто в нем не пружины, а струны.
Д. каждый раз несмело предлагал гостю партию в шахматы:
– Как насчет реванша, дружочек?
Но Юрьев наотрез отказался играть с ним после того, как в первый вечер потерял на пятом ходу ферзя. Шахматы подарила Д. когда-то Маша на день рождения – изящные, на тонких ножках. Фигурки были выточены каким-то умельцем в столярке зоны. На подметке каждой из них стояла тройка, почему-либо важная для безвестного мастера цифра, срок, наверное. Маша играть не умела, а когда Д. учил ее, как ходят фигуры, принималась хохотать и прыгать конем с доски на стол, потом на тарелку, затем скок на его колено, оттуда на живот.
Доска с расставленными фигурами скучала на подоконнике. Закатившуюся куда-то пешку заменяла абрикосовая косточка, мохнатая от пыли.
Садились пить чай. В дождливые вечера в открытое окно влетали брызги, темнело быстро. В перерывах сонливого дождя от листвы шел шорох, будто кто-то рвал мокрую газету.
– Ну, рассказывайте, – говорила Маша, разливая чай в эмалированные кружки, тоже из зоны, подарок Юрьева к Новому году, – что у вас там новенького.
Но слушала невнимательно, рассеянно. Она пошла на кухню за сухарницей, в прихожей взгляд ее упал на шлепанцы, стоптанные, заляпанные, и она удивилась, как они могут принадлежать ей, здоровой, умной, красивой, молодой.
Сперва Юрьев говорил о зоне неохотно, безрадостно, потом увлекался, принимался рассказывать забавные истории, изображая героев в лицах, пародируя повадки и ужимки, интонацию и выговор вохровцев, сук, опущенных.
Юрьев рассказывал, как охранники торгуют водкой и какие забавные надписи можно прочитать, если забраться на вышку, и говорил, что, в сущности, никакой зоны нет, там у них то же самое, что и здесь.
– Это удивительно, – восклицал Юрьев, выключая свет, чтобы не летели комары, – жизнь за колючей проволокой идет по тем же самым законам, что и у нас с вами!
И в который раз принимался рассказывать про своих чудо-богатырей, как сержанты воруют продукты у солдат и заставляют для себя готовить отдельно, с мясом, и стоило одному очкарику («вот как вы, Евгений Борисович») возмутиться, как ему сказали окопаться у параши и всем приказали на него помочиться, и вот все подходили по очереди и мочились, а только он хотел что-то сказать, ему сапогом в зубы.
– И все-таки в каждом из них, – заключал Юрьев, отщипывая виноград, – при желании можно и нужно разглядеть человека.
И, не в силах остановиться, снова говорил, горячо, зажигательно, убедительно, о том, что нельзя сажать провинившихся солдат, вроде одного калмыка с какой-то (он пощелкал пальцами) собачьей фамилией, в общую камеру, потому что его там за красные петлички опустили и, выбив все зубы, заставляли совершать непотребства, а потом всласть замучили, или о необходимости отмены прописки, унижающей человеческое достоинство, неэффективной, изжившей себя, – когда всякого вновь пришедшего старослужащие прописывают: вколачивают в красивые юные тела звезды с ременных блях.
– Одетый в форму защитника отечества, или в арестантскую робу, или голый, какая разница, даже самый гнусный из них, – не мог успокоиться Юрьев, пока не съедал весь виноград, – все равно есть человек, несчастное существо, отколовшееся от человечности. И как бы низко он ни пал – все равно остается носителем искры Божьей.
Маша слушала рассказы Юрьева и не понимала, что влечет ее к этому неуверенному в себе, недалекому, угловатому юноше, почти еще мальчику, брошенному судьбой в этот кабаний мир – кто не выплывет, тот не моряк.
Из зоны время от времени кто-нибудь убегал. Один во время мытья в острожной бане спрятался под нижнюю полку и голый пролежал в луже воды с сумерек до глубокой ночи, потом пролез через печную трубу на крышу. Что он будет делать там, голый, черный от сажи, его, видно, мало заботило. Прыгнул с трехсаженной высоты и сломал ногу. В другой раз с лесозаготовок сбежали пятнадцать заключенных – все погибли в снегах, нескольких загрызли волки, троих забили самоеды. Одного из бежавших никак не могли найти – он устроил себе ночлег на лиственнице, а потом во сне свалился оттуда и переломил хребет.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.


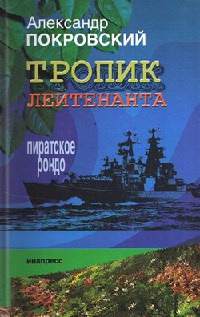

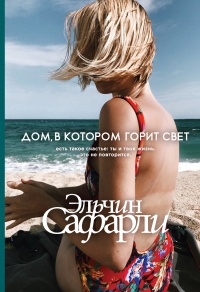
Комментарии