Книга рыб Гоулда - Ричард Флэнаган Страница 23
Книга рыб Гоулда - Ричард Флэнаган читать онлайн бесплатно
Конечно, мысли, пришедшие мне тогда в голову, были дурацкими, и я обрадовался, когда капитан забрал картину, чтобы отправить любовнице, а матросы закоптили келпи и съели.
Откуда тогда было знать мне, рисовавшему ту первую мою рыбу, что я ввязываюсь в поистине сумасшедшее, донкихотское предприятие, которое непонятно когда закончится и неизвестно, закончится ли вообще. Мне доводилось читать жизнеописания художников — они походили на жития святых тем, что у их персонажей едва ли не с самого начала обнаруживались некие признаки будущего величия. В них сообщалось, что уже в колыбели пальцы младенцев выделывали затейливые движения, будто требуя вложить в ручку дитяти кисть, дабы она скорее коснулась воображаемой палитры и тут же заполнила пространство ещё незримого холста бесчисленными образами, которые, казалось, переполняли их, с которыми они появились на свет, образами небесной чистоты.
Право на жизнь художника, похоже, действительно даруется свыше; живопись — это сущее наказание, пожизненный приговор, каторжный труд; однако ничто в моей юности не обнаруживало во мне склонности к творчеству или хотя бы интереса к нему; вовсе не это меня пленяло и завораживало в те годы, все мои тогдашние занятия могли быть сочтены сплошными плутнями, а впрочем, их таковыми в конечном счёте и посчитали. И хотя я герой этой написанной мною самим повести о моих приключениях и мытарствах — правда, потому, что мне, увы, не удалось найти никого другого, кто согласился бы занять моё место, — хроника жизни моей напоминает вовсе не переиначенный миф об Орфее, а скорее историю крысы из сточной канавы, разве только ещё хуже.
Я — Вильям Бьюлоу Гоулд, зеленоглазый, с душой, напоминающей терновую ягоду, и редкими гнилыми зубами, косматый, оплывший жиром, как сальная свечка, и, хотя рисунки мои выглядят ещё хуже, чем я сам, и полотнам моим недостаёт величия Рейнолдса и живописной техники Тернера, вы всё же поверьте мне, когда я скажу, что постараюсь показать вам всё: и безумное, и расколовшееся, и дурное — всё как оно есть.
Я стану по-своему знаменит, и пусть меня поимеют в задницу, если это не сбудется, хотя мне хорошо известно, что меня начнут поносить, если выйдет по-моему, ибо то будут не какие-нибудь стишки поэтов Озёрной школы, или Овидия, или этого чёртова коротышки по имени Поп, — нет, я выдам лучшее, на что способен, и нечто такое, на что не способен никто другой. Грубая, топорная работа, выполненная с душой, всегда будет открыта всем и для всего, в том числе для осуждения и ругани, тогда как изящно сработанные безделушки, за которыми не стоит ничего, защищены от всяческих оскорблений, а купленная похвала с лёгкостью обвивает их, точно плющ. Говорят, что хороший рассказчик тот, кто позволяет пламени историй пожирать фитиль своей жизни. Но, уподобившись миляге Тристраму Шенди, герою Лоренса Стерна, я не позволю никому руководить мной и буду творить так, как мне нравится. А кроме картин я затеял ещё вот что: возжечь славный костёр, в коем слова станут поленьями, и пусть они будут какие угодно, лишь бы помогли высветить те ничтожные частицы презренной правды, которые есть в моих скромных творениях.
Я — Вильям Бьюлоу Гоулд, и я собираюсь поработать для вас на славу, то есть так, как смогу, не слишком умело, топорно, ибо я человек неотёсанный и моё искусство подобно журчанью воды, стекающей по камням; оно как мечта дурака, желающего, чтобы твёрдое поддалось мягкому; и я надеюсь, что вы сумеете разглядеть сквозь мои полупрозрачные акварельные краски не проступающий из-под них грубый белый картон, а саму смутность души.
И разве одного этого мало для утомлённого борьбой с яростными волнами бурного моря юнги, если он сумеет втащить подобный улов к себе в лодку? Ну, скажите мне, разве мало? Или чтобы распознать возвышенное, вам нужны доказательства того, что художник творит, что он достиг высшего взлёта своих созидательных сил? Их вы от меня не дождётесь, я не опущусь до такого вздора. Ибо здесь я предоставлен своей судьбе, сколь бы ни было это плохо или даже, на мой взгляд, ужасно; и набрасываясь на принесённую Побджоем бумагу, покрывая её короткими штрихами — трах-тах-тах, трах-тах-тах, — я веду прицельный огонь, защищая свободу, да, именно свободу, ни больше ни меньше; правда, прицел оставляет желать лучшего, да и оружие подкачало: жалкая коробка с красками, которую стыдно даже отдать в заклад, несколько плохих кистей, несколько пузырьков с краской худшего качества да ещё незавидный талант копировать то, что вижу. Но у меня верный глаз, и я не промахнусь.
Что?
Я уже слышу голоса критиков, заявляющих, что моему стилю недостаёт изящества. А ведь отсутствие именно этого качества, по их мнению, как раз и отличает провинциальное скудоумие, неумолимо проявляющееся в каждой грубой поделке.
Они хотят принизить меня своими ярлыками, втоптать меня в грязь, но я, Вильям Бьюлоу Гоулд, вовсе не пигмей и не подзаборник. Я представления не имею, кем суждено мне стать. Но я не повержен, я не прах под ногами, хотя и бесконечен, как морской песок.
Хотите узнать, почему я ползу, прижавшись к земле? Подойдите ближе, я вам скажу: потому что сам так захотел. Потому что мне вовсе не нравится жить, поднявшись в небо, как это делают иные, полагая, что так и нужно жить, что лучшее место — над землёю, что, поднявшись повыше, они могут взирать с высоты орлиного полёта, со своих сторожевых вышек на землю и на всех нас и судить нас по своему разумению и по своей прихоти.
Я не желаю рисовать слащавенькие картинки, где перспектива искажает детали, оскорбляя саму жизнь, все эти пейзажики, которые так нравятся Побджоям, пейзажики, откуда правда выкинута на помойку, где взгляд художника устремлён к небесам, как будто мы в силах разглядеть что-то или кого-то исключительно на расстоянии, — вот ложь, свившая гнёзда на нашей земле; ибо истина никогда не улетает далече, но всегда лежит прямо у нас под носом, в грязи, во всей своей неприглядности — в чешуе, слизи и мерзости, — истина, попавшая в этот земной мир и к нам в души, словно в ловушку, вместе с дьяволом, вместе с ангелами; и всё это воплощается в каждом биении сердца — моего, вашего, нашего — ив каждой рыбине, которую я беру на прицел, вооружившись краской и кисточкой, и которая предстаёт на моих рисунках воплощением страдающей плоти.
Пускай критиканы заявят, что я ничтожество и что картины мои — сущая ерунда. Они примутся колошматить меня; эхо ударов их отзовётся повсюду, в том числе и в моей голове; они устроят жуткий бедлам, а удары моей кисточки по бумаге, оставляющие на ней штрихи и пунктирные линии, не смогут вторить им. Они разбудят меня своими криками посреди столь необходимого мне сна. Они, эти проклятые систематизаторы человеческих душ, постараются навесить на меня ярлык, подогнать под систему Линнея, как это проделывает наш Доктор с попавшими к нему в лапы злосчастными особями, а затем попробуют причислить меня к какому-нибудь новому племени, которое сперва сами выдумали, а затем тщательно описали.
Но я — Вильям Бьюлоу Гоулд; я сам по себе, я неповторим; рыбы мои сделают меня свободным, и я вместе с ними смогу избежать своей судьбы.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.


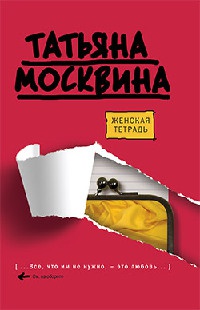


Комментарии