Эмиграция как литературный прием - Зиновий Зиник Страница 23
Эмиграция как литературный прием - Зиновий Зиник читать онлайн бесплатно
Точнее, это так для тех, для кого это так. Безобразность эмигрантских споров, ссор и полемики состоит в том, что те из эмигрантов, кто продолжают считать себя русскими гражданами, несмотря на паспортную приписанность к другим странам и континентам, начинают выступать не от имени своего круга, принадлежность к которому «там» и означала быть «русским», но от всей России сразу, от имени и по поручению. Прекрасная запутанность личных ссор обрушилась в загадочный скандал: оливы здесь — осины там. Но принадлежность к своему кругу избранных по отпечатку гораздо глубже, и вот люди, говоря за всю Россию от имени и по поручению неизвестно кого, имеют в действительности в виду позицию своего круга, что и здесь проявляется в неприязни к посланникам других кругов; но только разгром этих враждебных группировок идет уже от имени всей России, и личные враги тут же вырастают в статус «врагов народа».
Россия, Москва, народ и правительство — все, что было жизнью лишь разговора своего круга там, превратилось здесь в символ веры, и разговор в эмиграции принимает инквизиционный характер, когда к осуждению взглядов противника приплетается неприязнь к выражению его глаз: ведь он не свой, не наш, из другого круга, где у всех носы загнутые (или курносые); но раньше мы от курносых носы воротили и только; а теперь, оказавшись в одном тазу и пустившись по морю в грозу, мы должны осуждать их от имени и по поручению всей «нашей» России, поскольку они себя тоже отождествляют со всей «их» Россией: ведь и у тех и у других за железным занавесом общая география. Такой разговор не сулит продолжения, это мертвый конец, и в этом, пожалуй, главное оправдание моей пораженческой позиции. Моя же пораженческая позиция состоит в том, что мы для России — потеряны; мы стали полноправными представителями того самого загнивающего Запада, и, даже если что-то издаем по-русски, мы ничем не отличаемся от британца из Турции, пишущего по-турецки, или француза из Марокко, продающего апельсины: он ничего другого не умеет делать, хотя столь же горячо переживает за своих турецких или марокканских бывших сограждан в бананово-лимонном Сингапуре. То, что мы говорим по-русски и пишем по-русски, поскольку на другом не обучены, не лишает абсурдности ставшие столь популярными призывы к западной мировой общественности со стороны русских эмигрантов, живущих, между прочим, по западную сторону от железного занавеса: «Когда наши танки вступят на нашу территорию, не говорите, что мы нас не предупреждали». Так может выражаться только человек, который страдает раздвоением личности: от имени себя здешнего по поручению себя тамошнего. Только себя тамошнего он отождествил со всей Россией, а себя здешнего воображает чужаком и непонятым одиночкой, несущим на своем эмигрантском горбу всю Россию. Но на самом деле он несет лишь самого себя.
В гостиных свободного мира, от Нью-Йорка до Иерусалима, сидят мрачноватые молчаливые скептики и на светский вопрос «А правда ли, в России нет свободы слова?» начинают горячо размахивать руками, подкрепляя ломаную речь красноречивыми жестами, чтобы изложить свою обрезанную отъездом жизнь на другом языке. Они уехали ввиду отсутствия свободы слова и потеряли эту свободу слова физически: ввиду не возможности изложить на чужом языке свою проникновенную мысль об отсутствии свободы слова в родной речи. Другая жизнь — это всегда иностранный язык, и этот язык надо учить, угадывая в нем родную речь, как в обратном переводе: учить хотя бы на том уровне, чтобы ввести в свой обиход новые русские слова о других лицах, улицах, событиях. Так развлекался Набоков, вначале транскрибируя любимые русские стихи английским алфавитом, а потом догадался, что в его благодарности отчизне «за злую даль» уже скрыта идея нимфетки Лолиты.
Чувство изгнанника, добровольного или вынужденного, — тема классической поэзии, которая по Ломоносову есть сближение далековатостей. Для того чтобы угадать эту близость далековатостей, надо уметь искажать свою собственную мысль, чтобы приноровиться, открыть для себя нового собеседника, новые слова, новый язык, новую речь. Разговор, как мысль изреченная, есть ложь, обман: для продолжения разговора надо придумывать себя нового, и соглашаться, рядом сидя, и ласково в глаза смотреть — не для того, чтоб не обидеть, а для того, чтоб уцелеть в разговоре. Внимательно углядывать в новой жизни собственное прошлое и приписывать его собственному будущему, превращая свою жизнь в словарь иностранно-русского языка. Не надо заводить архива, над рукописями трястись. И эти пастернаковские слова надо понимать в том смысле, что архив должен быть в постоянном движении, подстраиваясь под сегодняшний день.
В эмиграции нет литературы, потому что она не желает стать эмигрантской, раз и навсегда осознав, что мы уже однажды обогнали собственную смерть. Наш собственный труп, кожу, из которой мы вывернулись, перепрыгнув через железный занавес, ужасно раздувать до размеров всей России, чтобы затем бить этим пузырем по лицу своих противников. Мы унесли и протащили через железные ворота лишь то, что удалось утаить от властей, от разлуки, от чужбины, и именно это, как и родной, теперь второй, язык, у нас теперь не отнимешь никакими силами: это личное дело каждого, и ее кредо можно понять в новом разговоре, и это, и только это выяснение достойно споров. И именно это и есть настоящая память, и, в отличие от памяти архивной, эта память, слава Богу, агрессивна, устремлена вперед, она ищет продолжения, глядясь в настоящее, как в зеркало.
Узнавание забытого через незнакомое естественно, как вдох и выдох. По всем столицам мира ходят под ручку эмигранты, и между ними происходит один и тот же обмен репликами: «По-моему, на Ленинград похоже», говорит бывший ленинградец. «А по-моему, ну прямо Москва», говорит бывший москвич. «Да какая же это Москва, когда прямые проспекты», возражает ленинградец. «Да, может быть, но в Ленинграде нет таких китаевидных башенок», не сдается москвич. А разговор этот происходит на улицах какого-нибудь Харбина. Ни один из них не отдает себе отчета в том, что каждый видит в незнакомом городе те улицы и дома, которые были заучены наизусть жизнью, а потом ушли в подвалы памяти. Но диалог этот доказывает и то, что не такие уж они особенные, наши родные города: они лишь, как любимые стихи, заученные наизусть, лезут на язык при каждом удобном случае. И то, что новые встречи напоминают о старых лицах, в этом и доброта этого мира, в этом и единственная надежда на продолжение старого разговора, от которого мы бежали, размахивая белым флагом эмигранта и чужеземца.
В одной английской пьесе под названием «Прежняя родина» главный герой, один из четверки лучших людей Англии, записавшихся из соображений духовного протеста в советские шпионы и бежавших в Москву, сидит на подмосковной даче с охраной вокруг забора и разговаривает про прежнюю родину с родственником из британского министерства иностранных дел: родственник приехал уговаривать героя вернуться на родину: «Ну, отсидишь, зато напишешь потрясающие мемуары, тебя простят». На провокационный вопрос родственника, как герою живется с его новыми коллегами, герой отвечает: «Жизнь члена партии похожа на существование шампиньона: сидишь в темноте, и периодически на тебя выливают ведро дерьма». Родственник сначала хочет записать остроумный анекдот в свою записную книжку, но, раскрыв записную книжку на соответствующей странице, обнаруживает, что афоризм не нов:
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
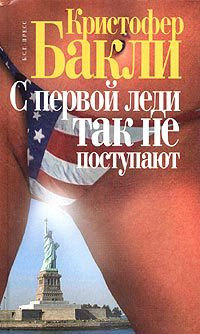




Комментарии