Планета шампуня - Дуглас Коупленд Страница 22
Планета шампуня - Дуглас Коупленд читать онлайн бесплатно
Прежде чем отправить открытку, я показал ее Киви. Он со мной согласился: он тоже был не прочь оказаться в стеклянном доме на южной оконечности новозеландского острова Южный, так, чтобы между ним и Антарктикой не было больше ничего.
— Антарктикой? — переспросил я. — А ты знаешь, что Антарктика — это вообще-то не один, а два континента, которые соединены в одно целое ледовой перемычкой?
— Правда? Вроде как разведенные родители.
— Точно.
Вопрос: на кой меня вообще понесло в Европу? Честно говоря, то, что я попал туда, — уже чудо, учитывая, на какую уму непостижимую стену безразличия я наткнулся, когда вынес эту затею на суд друзей и родственников. («В Европу? Ничего не понимаю — зачем? У нас тут своя Европа под боком — нормальная Европа в ЭПКОТе, во Флориде. Тебя там что-то не устраивает? В чем дело-то?»)
Но у меня были свои причины. Помню, когда я толкал липовые часы, я все время думал, что интересно было бы взглянуть на те края, где делают настоящую «фирму». И еще мне хотелось самому поглядеть, что же это за мир такой, где моим предкам стало до того невмоготу, что они решились бросить его навсегда. И еще я слыхал от очевидцев, что в Европе можно классно оттянуться.
А вообще я помню, какой прогрессивной и стильной казалась мне Европа на фотоснимках: звенящие энергией и задором геометрические сооружения, словно гигантские кристаллы, рванувшие ввысь из монотонной каменной скукоты. Европа казалась мне тем местом, где будущее надвигается гораздо стремительнее, чем у нас в Ланкастере, а я люблю будущее — и решение было принято. Полный вперед!
Но через три недели еврошатаний налет европейской прогрессивности сильно потускнел. Европа тужится быть прогрессивнее всех, но все эти потуги как бы… короче, туфта. Германия, надо отдать ей должное, в смысле техники будет покруче любого CD-плейера, зато вокзальные сортиры — точь-в-точь пыточные камеры времен инквизиции. Во Франции слыхом не слыхивали, что магазины можно бы открывать и по воскресеньям. А в Бельгии я своими глазами видел, что северный скат камеры охлаждения атомной станции порос мхом — да-да, мхом. Прогрессивность?
Перебирая снимки, сделанные во время моего европейского турне, я вдруг замечаю одну любопытную тенденцию, в которой я не отдавал себе отчета, пока был там. Тенденция эта проявилась в том, что в мои европейские воспоминания, запечатленные на фотоснимках, тихой сапой пробралась разная американская корпоративная эмблематика. Американские «пицца-хаты» сияют неоновым светом за спиной у дуэта улыбающихся ширококостных австралийских училок по имени Лиз. Реклама ковбойских сигарет и фирменный фургон курьерской почты служат фоном для троицы потрепанных странствиями второкурсников из Онтарио. Логотипы компаний по выпуску фотоаппаратуры и компьютеров красуются на футболках путешествующих студентов Корнельского университета. Но самое сюрреалистичное — это «кола-тотемы»: цилиндрические, оклеенные бумагой рекламные тумбы, призванные имитировать банки с кока-колой, посреди дремотно-наркотического, загаженного пуделями, изрытого каналами Амстердама, где миллионы использованных игл погребены в толще оливково-зеленого ила под поверхностью воды и где по ночам высокие, узкие, как картонки с печеньем, дома, разделенные щелочками проходов, словно тают в черном небе. Странно, что, пока я сам там был, я этих эмблем и логотипов попросту не замечал, нигде, ни разу, но теперь, когда я снова дома, от них уже не откреститься, ведь это часть моих зафиксированных на фотобумаге воспоминаний.
За шесть недель до моего запланированного возвращения домой я трясся в поезде, двигаясь на юг, из Дании в Париж, по пути украсив мой паспорт очередным штемпелем (бельгийским красным треугольником) и в очередной раз закатывая глаза при виде куцего поездного бутербродика с ветчиной и жестянки с апельсиновой шипучкой (инструкция по открыванию банки на четырнадцати языках). Мы с Киви и одна пара из Техаса делились опытом на предмет гостиниц-общежитий — причем все четверо остро нуждались в парикмахерской, горячей ванне, антибактериальном лосьоне и мультивитаминах.
Потом я читал письмо от Дейзи, отправленное мне на адрес копенгагенского отделения «Американ экспресс». Марки на конверте были наклеены вверх ногами; в конверте оказалось кольцо в нос — сувенир от Мюррея (кто еще не вдел в нос кольцо — срочно вдевайте!) и всегда висевший у нас на холодильнике рисунок Марка «Завод», от которого у меня защемило сердце, и я сразу понял, до чего я устал, как мне одиноко и как я стосковался по дому. В прилагаемой записке Дейзи заклинала меня сорвать для нее цветок с могилы Джима Моррисона в Париже, а в постскриптуме, после щедрой порции ланкастерских сплетен, приписала:
У Марка простуда, и марки он смачивал не слюной, а тем, что течет у него из носа. Надеюсь, тебя не стошнит. Д.
За окном поезда уныло моросил дождь, бесцветное небо нависало над серым, в барашках, Северным морем, и мы, наша четверка в купе, утратив всякую охоту друг с другом разговаривать, сидели, очумевшие от усталости, примолкшие, и ехали куда-то по белу свету, ни на что уже не реагируя.
Потом, спустя какое-то время, я вдруг обратил внимание на одну проплывавшую мимо картину, которая до сих пор хранится у меня в памяти как символ нижней отметки моего путешествия. Я увидел в холодном туманном мареве бледно-желтое поле цикория, уходящее от рельсов вверх, на восток, и там наверху кирпичный дом века XVII-XVIII, один как перст, не то что деревца — ни кустика вокруг!
Да, конечно, подумаешь, невидаль — дом торчит посреди поля, и поразило меня не это, а то, что с этим домом сделали. По каким-то неведомым причинам все двери и окна в нем заменили вентиляционными пластинчатыми решетками, и через эти выхлопные отверстия дом выдыхал полупрозрачный дымок, медленно сползавший вниз на поля. Но откуда шло это дыхание? В моем воображении сразу возникла некая атомная электростанция под Антверпеном. От подземного чрева электростанции тянется черный трубопровод — он проложен под жилыми домами, дорогами, школами, кафетериями, лесами, чтобы в конце концов выдохнуть сухое теплое дыхание через пластинчатые жабры дома, выпустить его на просторы бельгийской деревни, над могилами давно уснувших вечным сном европейцев. Никогда еще я не видел пейзажа, в котором так неуместно было бы присутствие человека.
Киви спросил, не лихорадит ли меня часом, и я ответил, нет. Марковы великаны покинули свои платформы на колесах — в Европе тоже. В ту минуту я понял, что хочу поскорей вернуться домой, но тут вмешалась судьба, а у нее, как известно, свои законы, и прежде чем я успел перестроить дальнейшие планы, я прибыл в Париж.
Стояла середина июля, и бульвары Парижа были запружены туристами и парижанами, последние, как от боли, морщились от ожидания августовских отпусков — точь-в-точь как человек, которому давно невтерпеж справить малую нужду. Жаркое — хоть загорай, как в солярии, — солнце палило сверху на желтоватые, цвета песочного теста дома, на местных цыган, на хлыщеватых еврояппи, на выхлопные газы и малахольное блеяние сирен «скорой помощи». Всюду, куда ни глянь, алжирцы и арабы, как, впрочем, и неубывающая армия американских и канадских туристов в дорожном, по принципу «одежды мало, комбинаций много», облачении, всегда с какой-нибудь «функциональной» изюминкой: рубашки-поло цвета мятных пастилок со специальным кармашком — для паспорта; женщины с перманентом в форме мотоциклетного шлема на голове, под которым, как пить дать, у каждой припрятан газовый баллончик; мужчины с прическами «афро» а-ля кукла Кен [15], под которыми у них спрятаны кассеты с учебным курсом по самоусовершенствованию, чтобы, бродя по Лувру, включить аудиоплейер с наушниками и не терять попусту время.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

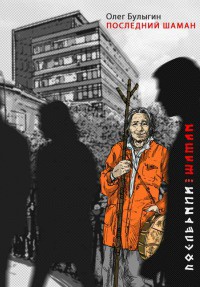


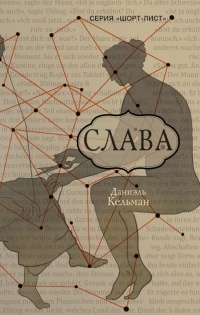
Комментарии