Прелюдия. Homo innatus - Анатолий Рясов Страница 22
Прелюдия. Homo innatus - Анатолий Рясов читать онлайн бесплатно
Тот или иной субъект может быть манекеном по отношению к одним, а прохожим — по отношению к другим объектам. Спектакль слишком тотален, чтобы допустить столь примитивное разделение на сцену и зрительный зал. Прохожий и манекен постоянно меняются ролями — по первому желанию. Все пространство спектакля есть бесконечное переплетение витрин и улиц. Даже функции режиссера попеременно передаются персонажами друг другу. Режиссера время от времени переизбирают из двух существующих фракций.
Хуже того, даже пассажир воспринимается со стороны как манекен или прохожий. Vector vectori pupus est [14]— вот негласный закон спектакля. И потому даже на самого себя пассажир смотрит то как манекен на прохожего, то как прохожий на манекена.
Цифровые магнитофоны. Для того чтобы синхронизировать их друг с другом, необходимо последовательно соединить их при помощи synk-кабелей. Тогда master-магнитофон сможет управлять slave-машинами. Впрочем, любая из них легко может стать master, нужно только изменить настройки в меню и перекоммутировать провода. Master-машиной можно управлять при помощи дистанционного пульта.
Вы же сами уже не можете без всего этого — без белоснежного воротничка судьи, без выхлопных газов, без грохота кандалов, без заполнения квитанций, без понимающих глаз психоаналитика, без блеска гильотины, без шелеста купюр в кошельке, без заточенных штыков, без шоколадного печения, без автоматных очередей, без обезглавленных мятежников, без пыток, без войн. Вам же нужно все это, как наркотик, как воздух, как гарантия вашего существования… Для вас не существует ни прошлого, которое вы списываете вместе со старыми зубными щетками и тупыми бритвами, ни настоящего, которое растворилось в потоке рекламных репортажей, ни будущего, которое предсказуемо, как «аминь» в конце воскресной проповеди.
Номера домов забрызганы кровью. Названия улиц тоже трудно различимы из-за покрывающих их бордовых разводов. К тому же разбираться в них — гиблый номер. Эти названия меняются раньше, чем ты успеваешь запомнить прежние. А потом их снова переименовывают. Более того, ежедневно меняется сам облик города. На месте проходных дворов оказываются тупики или неожиданно появляются знаки, запрещающие вход. Зачастую на месте знакомого тебе дома обнаруживается куча покрытых сажей, дымящихся обломков. Военное положение обязывает к перманентной перепланировке кварталов. Порой целые районы превращаются в горы руин. Но уже через неделю на их месте обнаруживаются ряды новостроек, свежих декораций. Наверняка, это имеет прямое отношение к махинациям с недвижимостью. Улицы переплетаются друг с другом, меняются местами, и все, что тебе остается — это продолжать свое бессмысленное блуждание по лабиринту. Ищешь ли ты выход или только убежище? Трудно сказать, ты и сам стал забывать о смысле своих прогулок. Куда больше тебя заботят постоянные преследования торговцев и полицейских. В какие бы трущобы ты не забрел — от них нигде нет покоя. Даже во время бомбежки они умудряются доставать тебя. Вокруг их настолько много, что ты уже стал путать приторговывающих полицейских с полицействующими торговцами. У всех у них желтые глаза. В их руках лопаты.
Спектакль расценивает подлинное искусство если не как порок, то, по крайней мере, как нечто противоестественное, максимально приближенное к сфере безнравственного. Художник в мире спектакля беден, болен и изможден. Иными словами, он проклят. Вполне логично, что его постоянно одолевают чувства изолированности и опустошения, нервное раздражение, неуверенность и экзистенциальный страх. Нищета, одиночество, сумасшествие и смерть — вот те варианты развязки, из которых он может выбрать наиболее предпочтительный. Быть художником — значит терпеть провал. Так повелевает сценарий. Чтобы выжить, художнику необходимо иметь свой собственный катехизис революционера, без него не обойтись. Только он превращает слабость в предельную силу. Пункты таких психологических катехизисов могут варьироваться, а их количество никем не утверждено — каждый вправе решать сам, из каких параграфов будет состоять его внутренний ультиматум. Но факт в том, что без катехизиса художник неизбежно трансформируется в манекена. Художник — это солдат. Он должен обладать незаурядной внутренней силой, чтобы не бросить игру.
Но подлинная трагедия художника в ином: он не способен остановится в своем поиске присутствия. Найдя дверь, он никогда не зайдет внутрь. Его присутствие навсегда останется незавершенным. Родившись, он не сможет поверить в рождение. Просвет кажется ему более ценным, чем сияние. И он готов к вечному проклятию бессмертием, осмеянию и позору. Он осознает, что обречен на прелюдию.
Слепой зрачок фонаря мерцает за катарактой мглы. Мой последний маяк. Ботинки месят помои облезлых сугробов. Согробов. Чья-то щедрая рука сыплет с неба новые горсти белого снега. Огрызок сердца гниет в груди. Его стук чем-то сродни икоте, и так же неожиданно прекращается. Зеркало дает еще одну трещину каждый раз, когда я заглядываю в него. Я заклеиваю стеклянные раны скотчем.
Серый полусуморок ока. Стук костылей по льду. Смех мерзлой земли. И одновременно — слякоть ее же слез. Кто так настойчиво пытается заключить в плоть тень моего безумия?
Игнатий как-то произнес одну фразу, и мне почему-то не захотелось возражать — «Настоящие романы рождаются после тридцати-тридцати пяти прожитых лет. Больше людей должно умереть вокруг».
Эта поездка будет последней серией занудного телесериала. Убирайте трап!
Шепот страха, шорох сострадания, хруст одиночества. Что это? Паук на твоем лице…
Зола — мой прокурор. А единственный свидетель со стороны обвиняемого — ветер. Последний свидетель. Он сдувает золу с моих сомкнутых век. Но он дует все слабее и слабее.
Да, это почти дневник. Дневник, вывешенный на разгул ураганам. Отзвук осколка, павшего на оледеневшую землю. Дневник-поэма. Дневник-пьеса. Дневник-роман. Дневник-прелюдия.
Выход.
Выдох.
Взгляд.
Крик.
Я возвращаюсь в себя.
Убирайте же трап!
Превращение в пса — самая изнурительная фаза эволюции пассажира. И вот она наступила. Я превращаюсь в тот самый кошмар, который когда-то одолевал мое детское сознание. Вгрызаюсь в это беззащитное воспоминание о самом себе, чтобы разорвать его на части, уничтожить, стереть из недр мозга. Обрастаю колкой шерстью, скалюсь, скребу когтями мерзлую землю. Но вдруг выясняется, что пес вовсе не так зол и силен, как я это представлял. Наоборот — он изнурен, голоден, ободран. Ему холодно, он виновато жмется к стенам, освобождая тротуар для суетящихся прохожих, скрывая затравленный взгляд. Шаркающей походкой он куда-то плетется под холодным дождем на своих неуклюжих лапах. В его глазах читаются растерянность и мольба. Он вовсе не страдает бешенством. Куда больше его заботят гноящиеся лишаи, расстройство желудка и кровоточащая царапина на боку. Он хочет спать. И еле слышно рычит. Чтобы усмирить его вовсе не потребуются ошейник и цепь. Он и так еле живой. Пес с картины Дюрера. Его глухое рычание все чаще переходит в тихий жалобный вой. Теперь ему уже не удается скрыть купающиеся в слезах глаза. Нелепая попытка уничтожить старые воспоминания — все, на что ему хватает сил. Но они по-прежнему сверлят его изнутри и не хотят умирать. Они сильнее, чем он. И он продолжает плестись. На его шее болтается серебряный ошейник с изъеденным ржавчиной маленьким крестиком.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
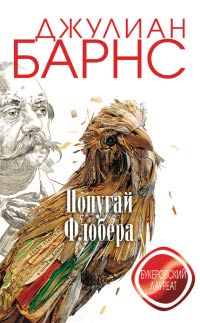
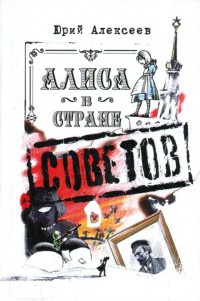



Комментарии