Браки в Филиппсбурге - Мартин Вальзер Страница 22
Браки в Филиппсбурге - Мартин Вальзер читать онлайн бесплатно
Все, что Анна сегодня говорила, звучало как приглашение. Ганс сочинил какую-то любезность, мысленно апробировал ее и произнес. Анна просияла. Он охотно полюбил бы ее. Но она была совсем не такая женщина, как Сесиль или Марга. Она была старая девочка.
Анна принесла поесть, принесла вина и ждала, чтобы он кончил репортаж; потом она села к нему на колени и так долго елозила опять губами по его лицу, пока он не возбудился, не нашел ее привлекательной и не повторил то, что сделал в парке. По мне, ну и пусть, решил он, она хоть любит меня, не хохочет неизвестно над чем, знает, кто я, мне не нужно постоянно тянуться на цыпочках, стараться изобразить из себя невесть что, в конце-то концов, женщина есть женщина, и точка!
Из второго месячного жалованья Ганс купил себе бирюзовую рубашку, усыпанные темно-красными камешками запонки и медового цвета галстук, настоящий итальянский, на крошечной полоске материи стояло: seta pura, [1]Ганс на обратном пути все повторял про себя эти слова, переложил их на музыку и распевал на разные, лады, пока не увидел госпожу Фербер. Ей не нужно слышать, как он распевает. В своей комнате он установил, что носит под верхним платьем предметы, не заслуживающие наименования белья. И тут же еще раз помчался в город, купил белое белье, примчался назад в свою комнату и стал все примерять. Впервые в жизни он ходил покупать один, за собственные деньги и так много сразу. Деньги, которые ему удавалось сколотить на каникулах, работая практикантом в провинциальных газетах, нужны были ему, чтобы продолжать занятия, а одежду ему все еще покупала мать. Она с огромным удовольствием отправлялась с ним в районный городок (а с еще большим — в соседний районный город, в тридцати километрах от них, где их ни единая душа не знала) и весь день напролет ходила по магазинам, разыскивая подходящее пальто для него, или костюм, или всего-навсего перчатки, или платье для себя. Ганс и сам придавал большое значение своей внешности, понимая, что ему нужно и что ему идет, но уж мать не знала удержу, она все перебирала, выбирала и отвергала, и потом долго еще искала, и опять перебирала и выбирала… Она все разом примеряла на него, отступала на шаг и, склоняя голову вправо, влево и снова вправо, делала отвергающий жест, нет, это не годится, слишком светлого для тебя цвета, ты тонешь в нем, мешковато на тебе… А когда они находили что-нибудь подходящее, то, взявшись за руки, шли в кафе, лакомились многослойными пирожными, шепотом обменивались ироническими замечаниями о других посетителях, громко смеялись, подталкивали друг друга — словом, со стороны казалось, будто они молодая пара, только что отпраздновавшая помолвку.
Ганс пожалел, что зеркало в его комнате такое маленькое. В жизни не носил он еще столь тесно облегающего, эластичного белья, он видел себя на арене цирка, у подножия лестницы, ведущей к трапеции, вот он одной рукой уже хватается за нее, с кошачьей быстротой карабкается по перекладинам наверх, наверху поигрывает мускулами, а трико обтягивает его, точно сама кожа, он не ощущает его, может сделать отскок или бросок навстречу раскачивающейся трапеции…
А уж рубашка, она облегала его, точно ангельские власы! Галстук заставил его сосредоточиться. Запонки окрылили его руки. Он словно дирижировал неоглядным оркестром, но ни партитуры не видел, ни музыкантов, он видел только свои руки, узкие и длинные, что выглядывали из рукавов, и еще он видел темно-красные в золотой оправе запонки, сверкающие в свете лампы пюпитра; надо думать, и музыканты тоже давно не смотрят в ноты, и оттого просветлели их обычно угрюмые чиновничьи лица, и музыканты, и весь зал за его спиной следили, как и он, только за игрой его рук, при каждом взмахе которых в воздух от манжет летели снопы искр.
Оснащенный таким образом, Ганс трамваем доехал до Дома радио. Да-да, трамваем. От этого он пока что не отступится, как бы часто ни слышал от своих новых знакомых слова «такси» и «шофер».
Главный режиссер Господин тен Берген устроил «чай для прессы». Ганс тогда, после приема у Фолькманов, отправился с визитом в филиппсбургский Дом радио; господин тен Берген, правда, уехал, но просил передать, чтобы Ганс обязательно еще раз зашел, как только он вернется. Тогда Ганса провели по радио- и телестудиям. Шеф отдела печати, приятный пожилой господин, который постоянно и без малейшего труда улыбался, но и получаса не в состоянии был прожить, не опрокинув рюмочку — профессиональное заболевание, объяснил он, повод всегда найдется, а потом уж и без повода пьешь, — прошел с ним по всему Дому радио, по самым разным комнатам, где сидели люди в белых халатах и что-то нашептывали крошечным металлическим капсулам, по тесным кабинкам, где скучающие девицы подпирали задиками огромные ящики, на которых что-то крутилось; девицы медленным круговым движением поворачивали головы к двери, когда кто-нибудь входил, словно «выездные» лошади, что используются Богатыми крестьянами только для верховой езды или для участия в скачках. Эти длинноногие скакуны и рысаки, стоя всю неделю напролет в конюшне, в тупом ожидании оборачиваются на каждый скрип открывающейся двери с вопросом в сонных глазах: еще не подошло воскресенье? Как крестьянин, что, приводя посетителя в будний день к любимому коню, треплет его ласково по крупу, так и веселый шеф отдела печати похлопывал девиц по разным завлекательным частям тела. В студии они заглянули лишь сквозь стекла дверей; в первой стояли пять-шесть взрослых мужчин и, отчаянно жестикулируя, вопили в крошечный микрофон. Во второй одиноко сидела старая женщина. Казалось, она жаловалась металлической капсуле на свою горькую судьбу, даже плакала, вздымала руки, роняла голову на грудь и, достав носовой платок, снова жаловалась и жаловалась — но капсула, видимо, не проявила сострадания. Тогда на лице женщины отразилась ярость, оно вздулось, так что все морщинки разгладились, глаза выступили из орбит, на пальцах ее округло-воздетых рук выросли когти и тут же вцепились в капсулу, рот, открывшись в истошном крике, так и застыл открытым, а сама она, точно пораженная ударом, сидела в этой позе, пока дверь в студию не открылась и какой-то господин с повисшей вкось на губе сигаретой, войдя к ней, не сказал (его слова слышны были в открытую дверь даже в коридоре):
— Слишком много жара, Эва, придется повторить.
В последней студии, в которую они заглянули, перед святая святых этого дома, крошечной капсулой, сидел даже священник. Все его лицо колыхалось от приветливых складок. Он, казалось, утешал в чем-то капсулу. (Людей во всех этих студиях они видели только сквозь толстые стекла, ни единого их слова слышно не было, и можно было подумать, что капсула, с которой они шептались, так быстро поглощает все слова, исходящие из их уст, что даже буковке единой не удается улизнуть и спастись хотя бы в человеческом ухе.) Священник поднял теперь указательный палец и сурово погрозил капсуле, словно желая в чем-то упрекнуть ее, да-да, так точно, не все у нее в полном порядке, пусть не воображает! Но победила, кажется, все-таки его округло-мягкая натура, всегда готовая помочь, и он заключил свою речь к капсуле улыбкой, которую ему хотелось так отчетливо показать ей, что он едва не коснулся ее губами. А теперь, о Боже, какой ужас, что он делает? Он же сложил руки, да еще и молится на капсулу!
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.


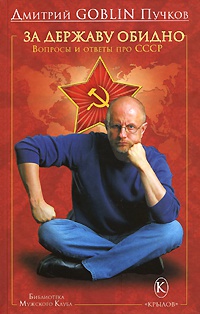
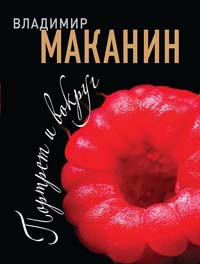

Комментарии