Тутти. Книга о любви - Олеся Николаева Страница 22
Тутти. Книга о любви - Олеся Николаева читать онлайн бесплатно
А ведь было время, когда мне даже нравилось быть сухой, жесткой, язвительной. Такая у меня была защита от материнской повышенной чувствительности и эмоциональности, от которой у меня дрожали поджилки. И вот, чтобы не создавать резонанс, я сжималась, скукоживалась в твердый такой комок. Мама говорила:
– Ты – жесткая, недобрая!
Это когда мы жили в Астраханском и она притащила в дом очередного кота – старого, облезлого и огромного. А у нас жили в ту пору уже две кошки – плодоносящая Ксантиппа и ее дочка, которую мы замешкались отдать, и она успела вырасти, но так и не приручилась. Жила в стенном шкафу и всех боялась. Только эту Ксантиппу и уважала, поэтому ее условно звали Подружка. И вот эта Ксантиппа с Подружкой незадолго до появления старого кота вдруг взбесились и стали по всему дому оставлять свои кошачьи метки. Между прочим, они испортили мне пианино, папин баобаб, который он привез контрабандой из Африки в своем носке. И в доме стояла ужасная вонь. Нас научили, что надо по всем углам, где только можно, понаставить рюмочек с одеколоном, и тогда кошки почему-то сразу перестают помечать свою территорию. Мы так и сделали – везде: на столе, на полу, на пианино, на буфете, на подоконниках стояли у нас эти пахучие рюмочки. А потом к нам заехал наш старый приятель – сценарист Саша, по прозвищу Борода, человек, мягко говоря, пьющий. Мы засиделись далеко за полночь, и он явно перебрал, так что остался у нас ночевать. Разложили ему кресло в родительской гостиной, под большой пальмой, а он проснулся с утра пораньше – плохо ему, голова раскалывается, во рту сухость, в глазах песок. И тут он видит – прямо перед ним – и здесь и там уже приготовлены ему рюмочки, он все их по очереди и опрокинул. Лег и опять уснул. А потом за завтраком и говорит нам:
– Как же все-таки у вас хорошо! И продумано заранее, и устроено. И с этими рюмочками как вы все предусмотрели, я глубоко тронут…
В общем, с этим обтрюханным котом, которого принесла мама, был уже перебор. Тем более что он орал по ночам прямо под нашей дверью и гадил. Выхожу я ночью к детям, когда кто-нибудь из них вдруг заплачет, и босой ногой вляпываюсь прямо в лужу или в кучу. Ну и гоняла я этого кота – брысь, кричала, пошел вон! И проникся он ко мне какой-то мистической ненавистью, вылез как-то раз ночью на лоджию кухни, перебрался с нее в лоджию нашей с мужем комнаты и через открытое окно так-таки впрыгнул ко мне. Встал посреди комнаты с мерзким мяуканьем, глаза горят, дыбом шерсть, и напустил лужу в свете полной луны. Оборотень!
– Умоляю, отдай его кому-нибудь, всучи, отнеси, откуда взяла, выгони, не могу я с ним, – умоляла я мать.
Она смиренно так оделась, потупила взор, взяла кота и пошла по соседям, пытаясь его пристроить.
– Хожу с ним уже три часа, как Герасим с Муму. Родная дочь нас из дома выгнала. Жесткая, недобрая, – жаловалась она.
У нее было правило, что все «слабое, беззащитное» должно обретать в ее доме приют. Это «слабое, беззащитное» был какой-то ее эмоциональный конек, и она могла так растравить мне этим душу, воткнуть в нее такое словцо, воткнуть и там три раза повернуть, зацепить таким синтаксическим оборотом и так поразить и ранить, что я, особенно в детстве, испытывала настоящие нервные потрясения. Но и потом тоже. Она так могла меня накрутить, высечь такую жгучую искру сострадания ко всем отверженным, что, если бы я поступала адекватно ее внушениям, я бы давно уже, натянув на себя вретище и посыпав голову пеплом, удалилась бы в какой-нибудь лепрозорий обмывать язвы у прокаженных… Из мамы получился бы первоклассный миссионер, стоящий во главе крупной благотворительной организации. Она всех бы воодушевила на подвиги. Все бы у нее отправились в Индию кормить голодающих или в Зимбабве спасать бездомных детей. Но я научилась смягчать болезненные уколы ее словесных стрел.
«Нет, – порой думала я, – прочь от этой теплой природности, сентиментальной душевности – туда, туда, на ледяные метафизические высоты. К жизни духа! И там – гореть, спалить себя дотла».
Этим я чуть не угробила одну хорошую девушку из Харькова, поэтессу, которая приехала поступать в Литинститут, а поселилась у меня, еще на Кутузовском. И вот я уходила на целый день на занятия, беря еес собой, потом мы шли или в гости к друзьям – поэтам, или на литературный вечер, или на семинар поэзии, возвращались уже поздно, засиживались у меня на кухне, она удалялась спать в мою комнату, а я тут же раскладывала блокнотик и писала стихи. Потом она просыпалась, чтобы со мною идти в институт, а я, одетая еще со вчерашнего дня, читала ей то, что написала за ночь.
Через несколько дней она взмолилась:
– Да я так умру! Не могу больше! Не спать, не есть… У меня уже от этого кофе стучит в висках, от сигарет – одурь.
А я ей:
– Помнишь, как это у Бунина: «До черноты сгори!» Стою перед ней – мне девятнадцать лет, белые волосы ниже плеч, узкие джинсы заправлены в высокие сапоги, вокруг шеи длинный небрежный шарф. Амазонка.
– Нет, – говорю, – конечно. И не надо тебе так страдать! Можно ведь жить, как все! Ничего в этом нет такого… ужасного.
И, видимо, это, как отравленное жало, так впилось в нее, что она, приехав снова, поступила в Литинститут, стала писать день и ночь стихи, то есть «гореть до черноты», тоже отпустила себе длинные волосы, надела джинсы, заправленные в сапоги, и издалека нас с ней даже стали путать.
Но потом пути наши разошлись – я вышла замуж, стала рожать детей, биться в сетях житейских попечений, а она, в итоге, вышла замуж за какого-то иностранца с другого континента и сейчас, как я слышала, торгует островами Карибского моря.
Но и друг мой поэт Петя, философ, красавец, анахорет, еще тогда, в институтские времена, вещал о творческой свободе, змей, говорил, надо для нее пожертвовать всем – семьей, бытом, привязанностями, всем земным. Тянул, закрывая глаза:
Мне невозможно быть собой,
Мне хочется сойти с ума,
Когда с беременной женой
Идет безрукий в синема.
Обыденная человеческая жизнь – все эти ее расписания, хождения на службу, зарплаты, вечеринки с сослуживцами, отпуск, тихие семейные радости, заработки, вечера у телевизора, борщи с котлетами, покупка холодильника, здравый смысл и житейская польза и т. д. – казалась нам тогда чуть ли не богоборчеством. Так мы и неслись куда-то, гонимые ветром, задыхаясь от вдохновения, упиваясь строфой, и далекие скрипочки, чудилось, поют где-то там, нам и над нами, в ненастном и мутно клубящемся небе…
Дружила я в ту пору и с дочкой Инны Лиснянской – Леной. Она училась в Литинституте на прозе, была старше меня на несколько лет и относилась ко мне с чувством старшинства и покровительства. Както раз, когда она уже вышла замуж и должна была родить ребенка, я поехала ее навестить.
Она неторопливо расхаживала по кухне в халате, огромное ее пузо было прикрыто фартуком, а в руках была поварешка – она варила борщ и делала это с явным удовольствием, как-то даже священнодействовала над ним. Я остолбенела, увидев эту картину, столь не совместимую с ее недавним образом девы-писательницы, «эмансипе», в неизменных вельветовых брючках и с сигаретой меж тонких длинных пальцев.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
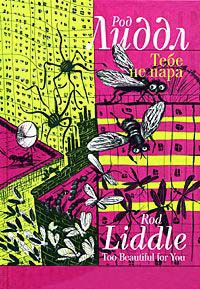




Комментарии