Окончательное решение, или Разгадка под занавес - Майкл Чабон Страница 21
Окончательное решение, или Разгадка под занавес - Майкл Чабон читать онлайн бесплатно
— Leg ov red! — повторял старик как заклинание. — Leg ov red! Что и следовало доказать! Задом наперед! Ха!
— Простите, — кашлянул викарий, — но я не совсем…
— Так, преподобный Паникер, отвечайте: вы видели каракули Линуса Штайнмана в этом его разговорном блокноте? Видели. И что вам более всего бросилось в глаза?
— Ну, как бы это выразить… У него довольно неожиданная привычка писать слова в зеркальном, так сказать, отображении, то есть задом наперед. С медицинской точки зрения это наверняка как-то связано с его речевыми нарушениями. Возможно, последствия травмы. И, кроме того, совершенно чудовищная орфография. Я много раз замечал…
— Именно! Значит, когда он писал на карточке эти слова, «leg ov red», с единственным, как я сейчас понимаю, желанием — попросить о помощи, обе эти особенности нашли там свое отражение.
— Leg ov red, — медленно произнес викарий, пытаясь прочитать слова в воображаемом зеркале. — Der… Vo… gel! Я понял! Der Vogel! Это же «птица» по-немецки! Ну конечно! Он хотел спросить про птицу! Про Бруно!
— Правильно! А теперь перевернем карточку. Что он тут хотел сказать?
— Карточку? Какую карточку?
Старик сунул ему под нос картонный прямоугольничек.
— Вот эту. На которой взрослый человек, судя по почерку, не англичанин, написал адрес того самого заведения, перед которым мы сейчас сидим, и которую, как я ошибочно полагал, обронил сам владелец зоомагазина.
— «Блэк», — прочитал викарий.
Он мысленно перевернул фамилию задом наперед.
— Силы небесные!
Ему приходилось видеть сумасшедших. Человек, источавший запах вареного птичьего мяса, сходил с ума.
Он знал этот запах. Они это едят. Они все едят. Он всегда знал, что в его родном лесу люди способны сварить и с наслаждением сожрать мясо ему подобных. Это знание передалось ему от предков. С первых же дней заточения неотвязная мысль об их кровавой пище и том, что его держат про запас на случай внезапного голода, наполняла его таким омерзением и ужасом, что он замолчал и только выщипывал перья у себя на груди, пока не засветилась плешь. Теперь он куда лучше знал их чудовищные аппетиты. Но он больше не боялся. Его никто не собирался есть. Он внимательно наблюдал за этими существами с бледной кожей, за людьми. Они пожирали птиц с ненасытной жадностью, в огромных количествах и самых разных, но чаще всего это были kurczepouletchickenHahnekipкуры. Его порода почему-то под нож не шла, так повелось среди людей. Он чувствовал запах зарезанной курицы, брошенной в кипяток и сваренной с морковью и луком; этот запах шел от человека, сходившего с ума, хотя при нем он ел только хлеб и рыбные консервы.
В доме у Голландца, там, в гавани на острове, где он вылупился из яйца, среди этих жутких обезьяноподобных существ с их странно-притягательными песнями, когда он еще боялся огня и их страшных зубов, ему подчас казалось, что он сам сходит с ума. Время шло, а пахнущий вареной курицей человек, которого звали Кэлб, все кружил и кружил по комнате; шерсть у него на голове стояла торчком, шерсть на лице отросла и стала гуще. Он пел, но тихо, самому себе. Ерзая на насесте, попугай с невольным сочувствием следил за ним, и ерзанье почему-то приносило облегчение. В его памяти оживали страшные первые месяцы в доме Голландца, когда вот так же, долгими часами, он сам все кружил и кружил по клетке и молчал, и только выдирал себе клювом перья, пока не начинала идти кровь.
Ему приходилось видеть сумасшедших. Голландец по-настоящему сошел с ума, он сцепил узловатые пальцы и удавил девушку, которая делила с ним постель, а потом выпил свою смерть из стакана. В стакане был виски, испорченный какой-то смердящей гадостью. Всю долгую жизнь среди людей он не уставал поражаться разнообразию их лексикона зловония, но гаже этого запаха не встречал ничего. Вонь виски была ему также знакома, но виски-то он распробовал; это случилось под конец его жизни у Полковника. Бруно уже забыл, когда ему в последний раз наливали виски. Ни мальчик, ни его родители не брали в рот ни капли. Бедногореджи он тоже ни с бутылкой, ни со стаканом не видел, в одежде и дыхании Бедногореджи частенько проступал знакомый резкий запах. На Полковника, его еще звали le Colonel, тоже, бывало, накатывало сумасшествие, долгое мрачное безмолвие, в которое он погружался так глубоко, что Бруно начинал тосковать, тосковать по песням. Но это было ничто по сравнению с тем, как он тосковал сейчас, когда его лишили Линуса, лишили мальчика, который не пел никому, кроме Бруно. Это была песня-тайна.
Именно она, песня-тайна, доводила Кэлба до безумия. Бруно не понимал, по какой причине, но молчал он нарочно и, надо признать, не без удовольствия. Кэлб простаивал перед попугаем часами, зажав в одной руке карандаш, а в другой лист бумаги, и умолял Бруно спеть эту давнюю песню, песню катящихся вагонов. По всей комнате были разбросаны листки бумаги, испещренные значками, похожими на следы птичьих когтей. По каким-то правилам, о существовании которых Бруно догадывался, но пользоваться которыми не умел, из этих значков можно было сложить его песню; это были ее части, простые и прилипчивые, мгновенно запоминающиеся. Иногда человек отлучался из комнаты, где они все время находились вдвоем, но потом возвращался с маленьким голубым конвертом, который жадно разрывал, словно там была еда. К вящему разочарованию и неудовольствию Бруно, внутри конверта оказывался всего лишь листочек, тоже испещренный значками. И все начиналось сызнова: опять мольбы, опять угрозы.
Человек стоял перед ним босой и полуголый, с бумажкой из голубого конверта в руках, и что-то бормотал. Он вернулся совсем недавно и тяжело дышал после подъема по крутой лестнице. От него шел сильный запах, его запах, запах умерщвленной и брошенной в кипяток птицы.
— Должна же быть приставка, — в отчаянии повторял он.
Это был язык мальчика и его родителей. Еще Кэлб умел говорить на языке Бедногореджи и его родителей, а однажды к нему пришел человек — больше сюда ни разу никто не приходил, — с которым этот сумасшедший без труда беседовал на языке пана Вежбицкого. Этого маленького портняжку с печальным голосом Бруно всегда вспоминал с благоговением, потому что именно он продал попугая родителям мальчика. Пан Вежбицкий, таким образом, оказался причастен к тому, что после длинной череды бессмысленных скитаний жизнь Бруно обрела смысл и счастье, хотя он сам понял это только сейчас, лишившись Линуса и оглядываясь на прошлое.
— Где я возьму ему эту сраную приставку?
Рука с листком бумаги упала вниз, безумные глаза уставились на Бруно. Попугай склонил голову набок, в чем любой из его сородичей усмотрел бы выражение сарказма и непреклонности, и ждал.
— Буквы где, а, буквы? Ты знаешь, что такое буквы? Для письма, понимаешь? Письмо.
Он понимал, что такое письмо, по крайней мере, слово было ему знакомо. Так называется яркий бумажный конверт, человек жадно хватает его, разрывает, а потом долго держит листок, который лежал внутри, перед глазами, а глаза несчастные, они не черные, а белые и двигаются туда-сюда, туда-сюда.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.




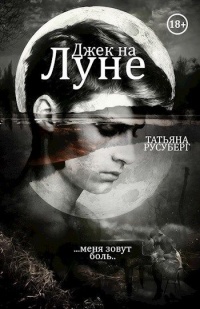
Комментарии