Высокий замок - Станислав Лем Страница 21
Высокий замок - Станислав Лем читать онлайн бесплатно
Мне частенько доводилось носить в учительскую тетради после классных работ. Там должен был быть какой-нибудь стол, возможно, даже стулья, но этого я не помню. Что же касается кабинета самого директора, то не может быть и речи о каком-то его описании, и это неведение невозможно объяснить одними только обстоятельствами, которые меня туда приводили – ну, например, когда я вместе с Л. разбил классный умывальник. Я так напираю на это обстоятельство потому, что ослеплял меня не страх, а Абсолют. Он там присутствовал наверняка. Я это чувствовал. Я искал его даже спустя много лет, когда в качестве литератора, которому предстояло встретиться с учениками, сидел в директорских кабинетах школ, потягивая черный кофе и ожидая своего часа. Но я так и не нашел его, этот Абсолют, он испарился, оставив холодные письменные столы, кресла, изречения и соответствующие портреты на стенах, исчез, но исчез лишь для меня. Присутствие его я неожиданно угадывал в выражениях лиц учеников, переступавших порог директорского кабинета. Они сразу же впадали в легкий, столь хорошо знакомый мне транс; я с первого взгляда узнавал это слабое одеревенение, окостенение, сухой холодок, блеск опасной эйфории в глазах, атрофию всех сразу чувств; они говорили совсем не дело и даже усердно шаркали по полу ногой, но и я тоже так поступал. Боялись? Может, и я, двенадцатилетний, боялся? Какое упрощение! Во время сентябрьского обстрела Львова немцами я бегал по Иезуитскому саду, разыскивая еще горячие шрапнелины, и ужасно трусил, потому что канонада продолжалась, и дело здесь не только в том, что я был глуп, но и в том, что опасность была до смешного очевидна: снаряд мог убить. Директор же не только не убивал, но порой даже не повышал голоса. Вероятно, можно попытаться представить дело в виде квадратуры круга, ибо до тех пор, пока существует вера, ее приверженцы и не хотят и не могут о ней говорить, ее принимают без доказательств, так же, как, например, наличие уха или ноги; атеист же маскирует мистику давних воспоминаний пытливым критиканством либо снисходительным превосходством пробудившегося ото сна перед только что пережитой во сне драмой. А впрочем, пожалуйста, анализируйте, улыбайтесь сквозь слезы умиления, плетите радужную нить воспоминаний, а я останусь при своем. Мистика? Да, но особого рода, всеприсутствующий и одновременно тотально материализованный абсолют; гимназические племена не суеверны, не верят в телепатию или психокинез; они овладели бы и тем и другим, если б мир это позволял. Никакой медиум так не восприимчив к чужой мысли или загробному дуновению, как были восприимчивы мы к капле знания, оказавшись один на один с Абсолютом у классной доски и раскаленной Сахарой невежества в голове. Что касается психокинеза, то нас было сорок человек, объединенных духом, и прежде чем удалось бы прочесть эту фразу, кафедру, профессора и классный журнал поглотило бы чрево нижних этажей, если б только напряженная до предела мысль могла поколебать основы материи. В последних фразах стиль у меня изменился, принял какой-то библейский оттенок, ибо, пожалуй, только так можно говорить об этих делах. А может, в стиле Гомера? Ведь древние греки подсмеивались над своими богами, знали их маленькие грешки и слабости. Впрочем, и ветхозаветные евреи, стоило господу отвернуться, уже перешептывались по углам, прогуливались с тельцами, теряли веру в кафедру, то бишь, я хотел сказать, в спасительное пришествие, – я думаю, их души были сродни гимназическим. Исайя или Иезекииль, [30]ухитрились бы изложить даже лекцию по алгебре нумерованными виршами, каждая строчка которых была бы подобна молнии, пронизывающей до мозга костей; я на это не покушаюсь. Все, на что я способен, – это разбавленная риторикой шутка, гротеск, а ведь spiritus, который flat ubi vult [31]пронизывал тогда высоким напряжением мел, который онемевшие пальцы судорожно сжимали в ожидании Слова. Или я преувеличиваю? А ведь я отнюдь не считал нашего математика божеством или директора – Зевсом; тем не менее многим из моих товарищей до сих пор – столько лет и войн спустя – снится выпускной экзамен, ничуть не уступающий Последнему Суду, хотя ни один Гойя не выразил его эсхатологии; [32]кистью. Неужели все эти свидетельства яви и упорных снов мы должны выразить словами «робость», «страх», «авторитет»? Я знаю одно: нас понуждали получать знания, мы же отшатывались от них как от заразы, а обстоятельства приводили к тому, что одновременно мы впадали в экстремальные состояния, из наших настроенных в унисон мозгов извлекали самые высокие и самые низкие обертоны, какими только может завибрировать человек. Была, конечно, ветхозаветная робость перед геенной огненной, страх перед серным дождем двоек, доводилось нам пререкаться с профессорами на уроках, как это делал на горе Синай Моисей, неожиданно призванный к ответу Иеговой, но эти переживания, переступая известные до сих пор границы, ставили нас один на один с Непроизносимым, этим божественным первоначалом, с призрачным экстазом, который он тщетно пытается призвать, взывая к Абсолюту. Религии, которые мы исповедуем в ходе жизни, со временем сходят на нет, их храмы приходят в запустение, но сброшенные с пьедесталов предметы вчерашнего культа нельзя презирать или относиться к ним со снисходительной иронией. Скажу больше – в то время я этого не знал, но не будь нас, профессора были бы ничем; из человеческого конгломерата учеников и учителей, оправленного в рамку классных губок, черных каталогов и испаханных парт, постепенно рождается то, что освящало и возвеличивало в наших глазах их очки, цепочки от часов, боты и карандашики; а когда все это развеялось и исчезло за стенами гимназии, словно за преодоленной магической чертой, осталось смутное ощущение – не выраженный словами избыток, который наши воспоминания тщетно пытаются пробудить к жизни, – что, кроме часов учебы и сумасшествия перемен, я познал некое состояние, сложившееся из отдельных, не всегда ясно различимых элементов, состояние, может быть, в масштабе времени и превратившееся в пустяк, несколько неуклюжее, до беззащитности смешное, – ощущение первого посвящения в трагифарс бытия, поскольку я пережил восход, кульминацию и закат Могуществ, которые со временем оказались, как в каждой великой или малой истории, самыми обыкновенными людьми. Молния, которую Зевс держал в учебнике древней истории, напоминала мне гуральский ощипок [33]я видел ее без всяких иллюзий, как сегодня: аккуратно отточенный карандашик в руках у Моторного. Для человека практического Олимп – просто гора, ему там нужны вибрамы, [34]а не жертвенные животные; ничего, кроме стульев и столов, уже нет для меня в кабинетах гимназических директоров; я говорю это без сожаления, но и без улыбки, без сентиментальности, но и без снисходительности, ибо таков порядок вещей.
Окончив эту песнь, я возвращаюсь ко Львову тридцатых годов, к его тенистым пассажам, холмистым улицам, зеленой, как бы лесистой, Академической, улице Легионов, оканчивающейся Большим театром, и Мариацкой площадью посредине, особо шикарной по ночам, когда с крыш мчались светящиеся олени мыла Шихта, а по неоновым лесенкам прыгали шоколадки Су-шара, Милька, Бельма и Биттера.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
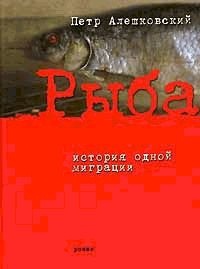
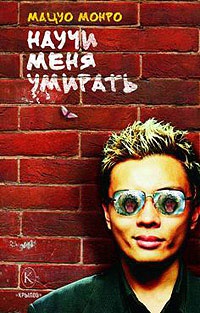



Комментарии