Язычник - Александр Кузнецов-Тулянин Страница 20
Язычник - Александр Кузнецов-Тулянин читать онлайн бесплатно
А Бессонов смотрел на них, на себя и думал, как долго продлится этот народ здесь и выльется ли его рождение во что-то или он затухнет так же, как затухли его предшественники. Древние айны назвали остров Кунаширом — черной землей, землей, посыпанной пеплом. Как голова вдовы. Но до айнов были другие: коро-пок-гуру — пещерные люди, маленькие приземистые монголоиды. Айны пришли позже и вырезали коро-пок-гуру. Древние айны — загадка. Большие, бородатые, голубоглазые, как европейцы. Японцы воевали с ними четыреста лет и теснили с юга оружием, сифилисом и саке. А с севера пришли русские купцы без стрельбы, но с теми же искушениями. Японцы, через сто лет забрав у России острова, согнали осколки уставшего сопротивляться, превратившегося в рабов народца в гетто на Шикотане, заставили вчерашних охотников и рыболовов выращивать репу и разводить овец и переморили курильских айнов до единого человека. Но потом настала очередь японцев бежать с островов. А теперь новый народ, собранный с бору по сосенке, называемый русским, — он тоже висел на волоске изгнания.
* * *
Бессонов в последние годы часто перекладывал на себя предстоящее изгнание. Он, как и все курильчане, понимал, что раз за дело взялись авантюристы и торгаши, передача островов Японии — вопрос времени. И понимал также, что японцы ни за какие коврижки не потерпят на своей земле инородцев — если только подобно айнам стать не просто вторым сортом, а превратиться во внесортовое мясо? И он на себя примерял исход на материк, где люди уже притерпелись к голодному выживанию, примерял к жене и думал: вот для кого этот исход будет сущим бедствием.
Полина Герасимовна год от года добрела туловищем, оплывая неравномерными буграми. И Бессонов, исподволь проследивший за всеми этапами эволюции-деградации жиревшей стареющей женщины, без особого удивления отмечал, что в итоге сложных природных пертурбаций из статной крупной красавицы получилась неуклюжая баба на длинных ногах с жирными ляжками и тонкими костлявыми икрами, с искаженным полнотой лицом, с толстыми нагорбиями, оплывшей шеей и развалившимся по бокам живота мощным выменем, баба, такая же обрюзгшая, как большинство курильских женщин. Лет через пятнадцать они в полной мере соответствовали друг другу, она и Бессонов красномордый одеревенщившийся широкий мужик с громким хриплым голосом. А он силился рассмотреть под ее наслоениями прежнюю Полю, и она проступала неожиданно и мельком — голосом, взглядом, нежностью… Тогда он, понимая, что и сам совсем не мальчик, мирился с наросшей на нее теткой, которая не только выглядела иначе — мыслила иначе, взирала на мир иначе и даже видела цвета не такие, какие прежде, слышала звуки не в тех тональностях, оценивала запахи иного спектра.
Курильские самодовольные крикливые дамы, дорвавшиеся в скудной стране до нелепого денежного изобилия, не знали, что с ним делать, они занимались примитивным крохоборством, неуемным обжорством и запойным пьянством. Имевшая при должности музработника детсада доход материковского летчика-испытателя, Полина Герасимовна быстро пристрастилась к накопительству. Она завела удойную корову немецкой породы — продавала семьям военных молоко и сметану, и птицу — кур и тяжелых жирных уток. Обрастая сберкнижками, коврами, золотом, кожами и мехами, которые, впрочем, надевались крайне редко и хранились в пронафталиненном гардеробе, она любила строить планы на будущую счастливую материковскую жизнь. Вовлекая подрастающую дочь и Бессонова в мечтания о покупке квартиры, автомобиля, гарнитура, она становилась деловита и сосредоточенна, подобно успешному бухгалтеру. Но ведь подспудно жила в ней мысль, которую чувствовал Бессонов, что все это пустая болтовня, потому что окружающее ее бытие — коровы, ковры в рулонах, сберкнижки, ящики с барахлом — стало ее сутью и самоцелью. Ведь и не нужны были ей эти пять ковров (стен столько не найдешь), а грело душу само знание, что есть у нее ковры, сервизы, хрустали, возобновляемые после битья с прежним усердием, есть серебро и шкатулка с золотыми украшениями, которая одна по тем временам тянула на приличное состояние, есть и деньги…
Сбои случались, когда она начинала чувствовать что-то откровенно безжалостное, способное ввергнуть человека в тягучую непролазную тоску. Тогда она могла пойти к соседке и крепко выпить с ней, так что еле дошлепывала домой, а потом день болела, не поднималась. И Бессонов сам делал все необходимое по хозяйству, чтобы утки и куры не передохли с голоду, а молоко у коровы не перегорело. Он словно по обоюдному согласию прощал ей слабости, как и она прощала ему, и то, что с годами родилось в нем к жене, он сам называл терпеливой привязанностью. Но его чувства к ней все-таки могли иметь множество оттенков — от мгновенной всепоглощающей ностальгической нежности до ехидного раздражения или ожесточения: он что-то терпеть в ней не мог, но что-то оправдывал-прощал. Потешался над ней за любовь к деньгам, но иногда, наоборот, потворствовал этому ее твердому чувству. О себе-то он твердил, что свою жизнь никогда не ставил в зависимость от денежного потока, в котором барахтались и тонули многие ополоумевшие люди, — он, и правда, испытывал к денежным бумажкам искреннее презрение, полагая, что любовь к ним простительна тупой базарной торгашке, но никак не мужчине. И сам же удивлялся, находя в себе рядом с презрением удовлетворение, когда в стыдливом уме машинально перекладывал пойманную рыбу или напотрошенную по-браконьерски икру на предстоящие барыши, — он, будто воришку, подлавливал свой разум за такими подсчетами. После каждой путины Бессонов неизменно проделывал одну и ту же издевательскую штуку в разных вариантах, в которой опять же умещались и презрение к деньгам, и удовлетворение тем, что они все-таки есть. Сняв со сберкнижки часть полученных денег, он шел домой и во дворе, вскрыв пачки и смяв банкноты, набивал ими два помойных ведра. В дом он заходил, открыв дверь пинком.
— А этого тебе не надо? — с веселой грубостью изрекал он и вываливал деньги посреди кухни.
Супруга притворно ругалась:
— Что ж ты делаешь!.. — А потом, довольно урча, шевеля зачарованными губами, полчаса ползала по полу, собирая, разглаживая и укладывая бумажки в ровные стопочки.
Это был замкнутый круг его вращения, его Вселенной, его судьбы-маятника. Такая двойственность сгодилась ему позже, в те времена, когда накопленные состояния островитян стремительно погружались в болото экономического хаоса. Бессонов затоптал в себе бухгалтерские проростки и оставил в утешение только взлелеянное высокомерное самомнение, что жизнь его была измерена количеством проделанного труда, — всем другим меркам пришлось отказать. Однажды он специально занимался полчаса подсчетами на листке из тетради дочери и пришел к выводу, что собственноручно добытой им рыбы только на официальных тонях хватило бы на пропитание в течение года городу с населением в тридцать тысяч человек. Это был его личный триумф. После этого Бессонов с невольным, плохо скрываемым злорадством стал наблюдать, как вокруг разоряются растерянные люди, как его собственная осунувшаяся жена приходит в отчаяние и медленно седеет — почему-то от затылка к вискам, — золотисто-белесые кудри ее делались прямыми, ломкими и прозрачными, сквозь волосы широко просвечивала сероватая кожица головы.
В те годы курильчане, огруженные толстокнижными сбережениями, пришли в оцепенение — оцепенели лица, души, мысли. Островной народ ждал, что государственная шутка с превращением финансов в бумагу вот-вот кончится, продолжится восхождение к денежному олимпу. Когда же люди опомнились, их накопления, все, ради чего многие из них и жили, усочились в некий песок. Тогда уже Бессонов мог вполуха подслушать рыдающие, ахающие сетования баб или мужиков, а потом повернуться к ним и сказать:
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

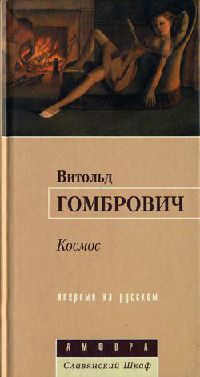
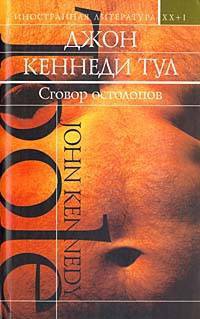
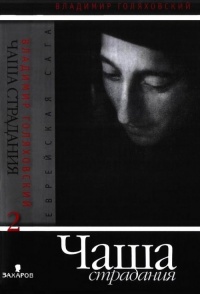
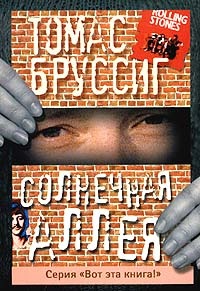
Комментарии