Остров женщин - Альваро Помбо Страница 20
Остров женщин - Альваро Помбо читать онлайн бесплатно
~~~
Все мы пребывали в добром здравии и хорошем настроении, с удовольствием ходили из дома в дом и много беседовали. До июля тетя Лусия не заговаривала об отъезде, не уехала она и в разгар августа, а когда вспомнила об этом, дни стали короче, жара — слабее, отдыхающие начали жаловаться на появившиеся спутанные плети мертвых водорослей, которые напоминали темно-зеленые боа мадридских модниц. Отлив был такой сильный, что показались блестящие макушки параллельного каналу рифа, облепленные чайками. Отдыхающие, сколько бы они ни приезжали в Сан-Роман, не могли привыкнуть к огромной разнице между отливом и многоводным, каждый раз словно превосходящим самого себя приливом, в сентябре особенно высоким, который оживлял, казалось бы, погибшие водоросли, и они, шевелясь, доплывали до навесов и пляжных сумок. Купальщики — кто-то напуганный, кто-то просто раздосадованный прибоем, как они его называли, — толклись у пляжной ограды, на полосе шириной не больше метра и длиной километров семь, тянувшейся от волнореза до Сан-Романа. Когда все они наконец разъехались, тетя Лусия перестала повторять: «Завтра же начинаю собираться и пишу Тому, что приезжаю», и начала говорить: «Теперь, когда здесь начинается такая жуткая погода, мне уже не стоит ехать в Рейкьявик. Даже если тут на море спокойнее, чем там, мне все равно кажется, что вот-вот разразится шторм». Это было первое для нас с Виолетой лето, когда детство осталось позади, а юность, обладавшая по сравнению с его бесцветной невразумительностью одним бесспорным преимуществом — ясностью и четкостью, — вся, абсолютно вся была впереди. Думаю, отчасти именно это повлияло на решение тети Лусии остаться (а также определенная боязнь покидать остров и свою башню и отправляться в Исландию). Кроме того, если на самом деле она хотела уехать, чтобы увидеться с Томом, а не потому, что ей надоело видеть и слышать отдыхающих, достаточно было просто позвонить и сказать: «Знаешь, Том, я хочу тебя видеть», и Том Билфингер, вне всякого сомнения, на пароходе, поезде и автомобиле примчался бы к ней.
Сколько же мы тогда болтали! Все лето напролет, каждый день допоздна! И мои домашние, и мои школьные приятели, особенно Оскар и Виторио, игравший в хоккей на траве — тогда этот вид спорта только появился — на лугу около теннисного клуба, первым президентом которого был мой дед-двоеженец. Мама и тетя Лусия, а потом мы с Виолетой являлись его постоянными членами, хотя никогда туда не ходили. Это лето прошло под знаком моих шестнадцати лет, но главное — под знаком башни тети Лусии и ее огромного сада. А еще это было лето — возможно, последнее или одно из последних, — когда тетя Лусия, по словам мамы, была, как в молодости, само совершенство и блистала, словно сошла с тех фотографий, где они обе, совсем молоденькие, запечатлены в юбках-чарльстон [26]и танцевальных туфлях с лентами. В то лето по вечерам мама приходила к тете Лусии, и после захода солнца мы все танцевали на площадке у беседки, будто нарочно созданной для музыкантов (наверное, когда-то так и было), без конца меняя пластинки на pick-up [27], который тетя Лусия без нашего ведома заказала в «Ла Нота де Оро» [28]— книжном и музыкальном магазине, где продавались даже некоторые популярные инструменты, например, гитары, бандуррии [29], аккордеоны и гармоники. В то лето Фернандито отказался ходить за руку. К моему удивлению, фрейлейн Ханна восприняла это совершенно спокойно: «Gut. Er ist schon ein Junge!» [30]В свои девять лет — серьезный, с прямой спиной — он был похож на стойкого оловянного солдатика. Говорил он по-прежнему мало, но гораздо чаще бывал на наших вечеринках, где сидел с таким же строгим видом, как начальник жандармерии Сан-Романа на праздничной мессе: оба видели свою обязанность в том, чтобы не покидать пост и не давать женщинам отвлечь себя болтовней.
В то лето несколько изменились занятия фрейлейн Ханны и мамы. Первая начала больше заниматься домом и курятником, постепенно превращаясь в экономку, каковой она со временем и стала, а мама посвящала больше времени своему так называемому творчеству, заброшенному ею, по словам фрейлейн Ханны, пока с нами было много забот.
Одна из странностей того лета, когда мне исполнилось шестнадцать, выражена словом, которое я начала тогда использовать, в том числе применительно к маме: это слово «вымышленное», поскольку мне казалось, что ее склонность к творчеству именно вымышленная, ненастоящая. Возможно, причиной такого неуважительного отношения была чрезмерная услужливость фрейлейн Ханны, ее, на мой взгляд, фанатичная преданность маме и даже нам, а возможно, дело было в моем переходном возрасте, который проявлялся не столько в физических переменах, сколько в пристрастности и пытливости ума. В любом случае мысль о том, что мамины художественные способности сильно преувеличены, казалась мне гнусной и недостойной и в то же время имеющей право на существование, как любая низкопробная шутка или карикатура, на которые лучше не обращать внимания и оставить без комментариев (как, к примеру, то, что происходит с нашим телом, когда кажется, что оно разбухает, или усыхает, или потеет, или кровоточит, или коченеет само по себе, независимо от нашей воли). Конечно, я не дошла до того, чтобы подумать или сказать себе: «Мама такая же художница, как я — индийская прорицательница», однако я стыдилась, что мне в голову приходят мысли, пусть отдаленно, но напоминающие эту. Как ни странно, неуважение к маме, заключенное в словах «вымышленная склонность к творчеству», которое я, правда, допускала только мысленно, привело к тому, что я прониклась гораздо большим уважением к верности и преданности фрейлейн Ханны. Я начала уважать ее за то уважение, с каким она относилась ко всем нам. Была ли она гувернанткой или экономкой, авторитет ее всегда был неизмеримо выше, чем просто гувернантки или экономки. Для всех, включая маму и тетю Лусию, фрейлейн Ханна была совестью нашего дома, формирующей его образ: можно было целый день болтать или копать картошку, можно было быть воображалой или балдой только благодаря неизменной любви и самоотверженности фрейлейн Ханны. В то лето я впервые подумала, что пока она с нами, смысл и гармония жизни нашего семейства останутся незыблемыми. Сама того не сознавая, она нередко выполняла обязанности чрезвычайного и полномочного посла или нунция, пусть в отношении не иностранных держав, а жителей Сан-Романа или каких-нибудь знакомых из Летоны. Занималась ли она Фернандито, курами или чем-то еще, она всегда была безупречна. На моих глазах фрейлейн Ханна взяла на себя управление всем нашим хозяйством и распоряжалась им с легкостью и непринужденностью, достойными вице-короля. Она делала это так, что мы чувствовали себя по меньшей мере принцессами или членами императорской семьи, чьи сорочки и носки являются предметом пристального внимания, чьи перемещения и визиты тщательно организуются, а постели зимой нагреваются грелками и бутылками с горячей водой, потому что перед нами стоят грандиозные задачи и мы не можем одновременно заниматься судьбами империи и всякими повседневными пустяками. Оглядываясь на те годы, окруженные призрачным ореолом нашей исключительности, я вижу, что мы принимали заботливость и внимание к себе, которые с королевской щедростью расточала фрейлейн Ханна, как нечто само собой разумеющееся. Кем мы себя считали? Хорошо еще, что при этих королевских почестях мы все-таки понимали, как глупо задирать нос или слишком серьезно к себе относиться. Не знаю почему, но в те дни я стала определять себя как личность, в которой чрезмерная гордость и аристотелевское величие духа должны проявляться особым образом. Нужно было настолько быть собой, что любое стремление казаться кем-то перед другими расценивалось как отсутствие воспитания, как нечто недостойное. Но каковы бы ни были истоки подобного определения себя и всей нашей семьи, которое возникло именно тогда, поразительно, насколько прочно эти мысли вошли в сознание фрейлейн Ханны. Я вспоминаю ее уже в зрелые годы. Наверное, она была примерно одного возраста с тетей Лусией, но казалась гораздо моложе, будто с годами прожитое и пережитое перестало отражаться на ее круглом бесцветном лице и оно не состарилось, а сама она стала похожа на картонную куклу, всегда одетую в темное, с аккуратно уложенной тускло-седой косой, напоминавшей старинный парик артиллерийского офицера. Возможно, она казалась нам носительницей некоего семейного, жизненного идеала, которого, по ее мнению, сама была недостойна, но которому считала своим долгом служить.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
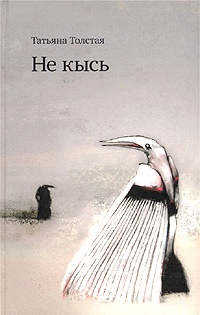



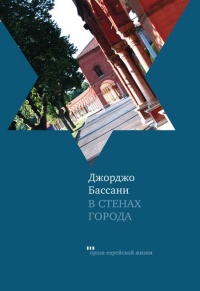
Комментарии