Откровенность за откровенность - Поль Констан Страница 20
Откровенность за откровенность - Поль Констан читать онлайн бесплатно
Аврора была сверхчувствительна к боли. Малейший порез, укол, отодранный пластырь, капля йода на царапину — и она уже плакала. Наученная опытом, очень скоро стала принимать меры, обманом заполучала таблетки, которые ей не прописывали, потому что впадала в панику всякий раз, когда врач, приближаясь с зондом или эндоскопом, предупреждал, что надо потерпеть, будет немножко НЕПРИЯТНО.
Она вообще перестала ходить к врачам, обходясь коробкой из-под туфель, битком набитой болеутоляющими препаратами на все случаи, но оставалась, по сути, бессильна против боли, которая подстерегала ее мигренями и не поддавалась никаким лекарствам, а уж новейшим чудодейственным снадобьям — меньше всего. Эта ноющая боль не отпускала ее, стреляла в виске, ввинчивалась в глаза, билась под черепом до тошноты. Лежа в темноте с мокрым полотенцем на лбу, с которого капало на подушку, она была во власти страдания, и оно исключало весь остальной мир, требуя, чтобы только ему всецело принадлежало ее тело и тем более голова. Когда не было больше сил терпеть, она принимала все, что было в коробке, все запрещенное ей, все опасное.
Мигрень, подобно манере письма, у кого-то вызывала отторжение, у кого-то понимание: одни никогда в жизни не испытывали головной боли, другим она была знакома, но они полагали, что это чисто психосоматическое и что приступы, которые приходится переносить время от времени, являются, в сущности, разрешением душевного кризиса, куда более мучительного.
— Но вы даже не осмотрели меня, — сказала она как-то невропатологу, который слушал ее, сидя за столом. — Разве вы не хотите выяснить, что у меня там, в голове?
— У вас типичные мигрени, — ответил он, — и осматривать нечего. — Лекарства — успокоительные, болеутоляющие, нет нужды их вам перечислять. И вы знаете не хуже меня, что ни одно не помогает по-настоящему. Не пейте спиртного, не курите, ложитесь пораньше. Избегайте эмоций.
Извольте: будучи писателем, избегать эмоций. Она садилась за работу, только наглотавшись успокоительных, и принимала их снова, чтобы вырваться из своей книги, не думать о ней больше, освободиться от гнета писательства, от навязчивого мотива этой книги, которая все пишется и пишется в голове без конца и заслоняет, и заглушает все остальное. Ее жизнь, такая неприметная, такая мимолетная, была все же полна эмоций, да еще каких бурных. Как боль, как мигрени, они были отголоском одной изначальной эмоции, одной, но такой сильной, что просто писать — то есть выталкивать ее из себя в отчаянной борьбе, о которой понятия не имеет читатель, — этого мало, чтобы сладить с нею.
Аврора никогда не была особенно знаменитой, но и не прозябала в безвестности, так что ей не приходилось сталкиваться с крайностями, которые губят писателей, растворяя их в серой массе неудачников, или — но это случается куда реже — изматывая в тщетной погоне за ускользнувшей славой. Наверно, лишь однажды, когда у нее из-под носа ушла литературная премия, она ощутила этот всплеск эмоций, подобный порыву ветра над неопытным мореплавателем, не знающим, в какую сторону повернуть свой парус. Парус Авроры опустился в кабинете ветеринара на бульваре Распай, где пытались вылечить щенка — это Лейла подарила ей почти что вторую Вертушку, в утешение.
Три дня прошли в попытках его спасти; щенку надо было менять повязки, ее просили держать его, а он выл. Три дня, шесть раз прижималась она губами к черненькой мордочке, глотая его плач. Говорила ему ласковые слова, обещала, что будет любить его и что он будет жить… пока не прозвучал приговор. Щенок неизлечим. Она потеряла сознание. Ей дали кусочек сахара с капелькой мяты — самое необходимое в кабинете ветеринара. Пока она, ни жива, ни мертва, машинально сосала сахар, ветеринар призывал ее посмотреть на вещи здраво: вы ведь еще не успели привязаться!
Да как же не привязаться, когда дышишь изо рта в рот, когда язычок благодарно лижет лицо, пробиваясь сквозь страх, как не привязаться через все это страдание, которое она приняла в себя, когда оно распирало ей грудь и его приходилось выплескивать наружу в потоках слез? Но сомнение уже закралось в душу, и она спрашивала себя, неужели за свою тайную боль ей надо было заплатить такой ценой — своими руками положить это круглое, это чудесное, это безгрешное тельце на жертвенный алтарь кровожадных богов, которые все равно повелели ей страдать, так страдать, что не выразить словами, а только взвыть вместе со щенком. И теперь, когда щенок умер, Аврора ощущала, как поднимается в ней скорбная ярость и призывает смерть, и эту ярость она загоняла в глубь себя и переплавляла в физическую боль, потому что хотя бы знала, как эта боль называется, и могла успокоить ее пилюлями.
Она прилагала все силы, чтобы сохранить на лице улыбку — лучший щит, от которого эмоции окружающих так и отскакивали. Прослыла беспечной, и это ее устраивало. Так что успокоительных она принимала много, слишком много. Ведь жизнь и есть сплошная череда эмоций, а она, желая все их отринуть, понизила свой порог чувствительности. Обычный телефонный звонок, звук чьего-нибудь голоса, проскользнувшая в этом голосе неуловимая нотка, в которой ей слышалось не совсем то, что говорили, — все это выбивало ее из колеи. Она сняла с двери карточку со своим именем, и на почте не знали, что она проживает по указанному адресу. Только очень небольшому количеству людей было известно, что звонить следует в квартиру, где значится имя мужа, хотя она давно встречалась с ним разве что случайно.
Путешествия — вот что действовало на нее успокаивающе. Она улетала в незнакомые страны, пересекала их из конца в конец, бессловесная и глухая, и они показывали ей сквозь стекло картины то диких красот, то нищеты в чистом виде, сменявшие друг друга, словно кадры в кинофильме. Ей легче было бродить по рынку в Манаусе, о котором рассказывают ужасы, чем выйти на улицу Сены в своем тихом и безопасном квартале. Да… и в Мидлвэе, штат Канзас, ей тоже было легче жить, чем в Париже. Она чувствовала себя счастливее в Мидлвэе, чем в Париже. И сейчас она даже задумалась, не остаться ли ей, тем более, что этого хочет Глория, не согласиться ли на предложение Хранителя Зоопарка принять участие в программе «Язык для шимпанзе». Ну да, ей будет лучше с бессловесными шимпанзе в мидлвэйском Зоопарке, чем со всеми этими людьми, чьи интонации голосов ей так хорошо знакомы.
И глядя на Лолу Доль — та заканчивала одеваться, — Аврора понимала, что алкоголики, на которых по-прежнему, даже больше чем на наркоманов, смотрят как на отбросы эпохи, — такие же люди, как она, только они нашли другое лекарство, лучше, проще и доступнее, имеющееся в продаже во всех супермаркетах, против той же самой боли, с которой она боролась, принимая все подряд анальгетики и чувствуя себя потом опустошенной и отупевшей.
— Глория говорила тебе, — спросила Лола, — что я лечусь криком? Как только почувствуешь напряжение, надо крикнуть, дать ему выход, пока не поздно. — Она повернулась к Авроре, чтобы показать ей, как это делается. Несколько раз вдохнула, широко открыла рот и вытолкнула свой крик прямо Авроре в лицо. Авроре вспомнились изображения инкубов, разинутые рты, отлитые из воска крики — и только.
— А как ты все-таки узнала? — спросила Глория.
— Я ничего не знала, я НУТРОМ ПОЧУВСТВОВАЛА. Вообще-то это моя гадалка подсказала, — ответила Бабетта. — Она посоветовала мне остерегаться женщины в зеленом.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

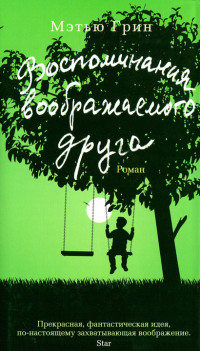

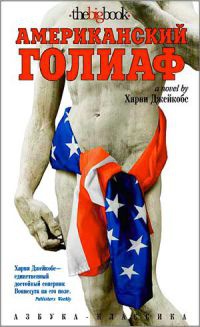

Комментарии