Жизнь А. Г. - Вячеслав Ставецкий Страница 2
Жизнь А. Г. - Вячеслав Ставецкий читать онлайн бесплатно
Ознакомительный фрагмент
Так же, частями, солнце обнажало старинную Пласа—Майор, где часом ранее в тени конной статуи Филиппа III появилась большая железная клетка. Охранявшие ее карабинеры — по одному на каждом углу — украдкой позевывали, скребли пятернями затылки, самый пожилой из них, северо–восточный, мирно дремал, опершись о поставленную стоймя винтовку.
Горожане заметили клетку и замершего в ней человека не сразу. В столь ранний час многие просто проходили мимо, заспанные, торопливые и оттого не слишком наблюдательные, лавочники сонно отпирали двери, снимали с витрин деревянные щиты. Лишь к исходу седьмого часа, когда с клетки сползла королевская тень (Авельянеда сразу почувствовал себя нагим), прохожие начали останавливаться и смотреть, со всех сторон обращая к нему большие, цепкие, разящие насквозь глаза. Чуть погодя зрители стали появляться и на балконах — крутобокие матроны в папильотках и кружевах, их небритые и полубритые мужья в ночных штанах с отвислыми коленками, с шипящей в сковородке треской, дети, тут — аккуратная школьница в бело–голубом платье, там — розовощекий карапуз с добавочным куском тортильи в руках, усатые служащие и машинистки, старые хрычи и молодые праздные недоумки. И здесь были только глаза, спокойные, немигающие, с воловьим упрямством глядевшие в одну точку, коей был он сам, затравленный и одинокий.
Было слышно, как где–то далеко, в глубине дома, радио, прочистив горло, заиграло по ошибке упраздненный имперский гимн.
* * *
Такие же глаза он видел повсюду — в Галисии и Астурии, Кантабрии и Риохе, Наварре и Арагоне. Города оспаривали друг у друга право первыми принять сверженного диктатора, и не будь его маршрут заранее утвержден республиканским правительством, взялись бы, чего доброго, отстаивать это право с оружием в руках.
Всюду, где появлялся его черный, клейменный буквами «А. Г.» запыленный фургон, он собирал аншлаги ненависти, вакханалии злопамятства, карнавалы вражды.
«Чествование» начиналось еще в полях, на подъезде к городу, где тюремный «Додж» с клеткой и узником встречала пестрая толпа зевак, жаждущих вкусить от мести самые сладкие ее первины. Загорелые оборванные работяги на велосипедах и стареньких тарахтящих «Меголах» следовали за фургоном, сигналя и улюлюкая, босоногие мальчишки шлепали по лужам, бросая в зарешеченное оконце комья грязи, женщины осыпали бронированный кузов репейником и колючками, цветами зла, собранными специально к его приезду. Все это напоминало пародию на свадебную процессию, довольно гнусную пародию, достигавшую апогея в центре города. Под звон церковных колоколов и клаксоны автомобилей, в сопровождении почетного эскорта из горланящих юнцов и потрясающих клюками бродяг он въезжал на главную площадь, где его ждало волнующееся море человеческого гнева и невысокий деревянный пьедесталец с надписью «Государственный преступник». Там, на этом пьедестальце, под защитой всего нескольких равнодушных карабинеров, Авельянеда проживал страшные, головокружительные часы, расплачиваясь, как ему казалось, за грехи всех тиранов в истории. Ибо только так — возложением на него вины Калигулы и Нерона, Кромвеля и Бонапарта, бесноватого баварского лавочника и толстозадого повара из Романьи — он мог объяснить себе свою участь.
Каждый день, с той самой минуты, когда клетку с ним выгружали из «Доджа» и устанавливали на пьедестал, до багровой зари, когда его отвозили в местную тюрьму (где был короткий занавес сна с прорехой ужаса посреди и беспощадный утренний поворот ключа в замке — сигнал о возвращении на площадь), Авельянеда погружался на самое дно горячей, хорошо протопленной преисподней, помещенной в самом жарком закоулке народного сердца. Он глох от криков и улюлюканья, в которые люди старались вложить всю свою ненависть, скопленную за долгие годы, он слеп от множества зеркал, которые ему протягивали со словами «Посмотри на себя, убийца!», он задыхался от дыма, которым его окуривали с воплями «Изыди, дьявол! Возвращайся в свой ад!». Он познал возможности испанского языка по части ругательств — возможности поистине безграничные, ведь из одних только животных, с которыми его сравнивали, можно было составить обширнейший зоопарк. Он открыл, до какой непристойности могут дойти испанские женщины, ибо слова и жесты, коими одаряли его эти прекрасные Мерседес и Тринидад, по достоинству оценили бы в любой казарме, в любом разбойничьем логове. Он постиг жестокость испанских детей, которые надрывали свои цыплячьи глотки, стараясь не отстать от матерей и отцов, хотя многие из этих маленьких чертенят даже не знали толком, кто он такой.
Они легко могли смести охрану и полицейских и растерзать его, но не делали этого, ибо позор свергнутого божества радовал их сильнее его смерти. Злобу они срывали на символах его власти, срывали с таким упоением, словно боль, причиненная этим символам, могла передаться ему самому, ненавистной диктаторской плоти. В Саламанке площадь была усеяна партийными значками «Великой Испании», объявленной вне закона вместе с ее проклятым главарем — мириады маленьких серебряных звезд хрустели под ногами разнузданной черни, свершающей на осколках его государства свой бесславный варварский танец. В Ла—Корунье на его глазах с колонны сбросили имперского орла — прекрасное бронзовое изваяние, которое берегли специально к приезду черного «Доджа». Едва птица, прянув в воздухе крыльями, рухнула на тротуар, как сверху на нее взобрались два предприимчивых голодранца и принялись топтать и оплевывать ее на радость беснующейся толпе. В Бильбао его статую работы Зангано свергли с пьедестала и крушили кувалдами до тех пор, пока она не превратилась в груду щебня, а в Сарагосе мраморного каудильо увенчали короной из колючей проволоки и окатили свиной кровью, липкой, уже свернувшейся — к вечеру памятник облепили мухи. Они жгли его портреты, имперские флаги, школьные учебники, в которых он прославлялся как спаситель отечества, облигации военного займа, пластинки с записями его речей, военные плакаты и календари с датами мнимых побед, нарукавные повязки «Великой Испании» и десятки его собственных чучел в парадной форме, с бутафорскими медалями на груди. Сами того не зная, они расправлялись не с ним, но с собственным прошлым, с теми собой, кто когда–то поклонялся этим статуям и с гордостью носил эти значки.
В то время как его бесчисленные двойники падали с пьедесталов и корчились в огне, потрясая жестяными медалями, сам Авельянеда держался спокойно, был лишь немного бледен, несмотря на палящее солнце, от которого почти не спасала натянутая поверх клетки белая парусина. Он держался благодаря внутреннему отупению, не покидавшему его с Дворца правосудия, с той злополучной минуты, когда тощий судья огласил чудовищный приговор. Ему все казалось, что это происходит не с ним, что эти горящие каудильо и облитые кровью статуи — лишь донельзя затянувшийся кошмар, увиденный им в горах Сьерра—Невады, и изо всех сил цеплялся за это хрупкое ощущение, чтобы не сойти с ума и не дать толпе еще один повод для глумливого торжества.
Впрочем, он ужасался не столько их ненависти (ибо не сомневался, что она внушена лживой республиканской пропагандой, и что в толпе полным–полно клакеров, науськивающих народ), сколько той быстроте, с которой они изменились.
По вечерам, когда толпа, насытив свой гнев, нехотя расходилась, а на площадях вспыхивали огни, Авельянеда, прильнув к прутьям решетки, всматривался в лицо новой Испании — пресловутого царства свободы и благоденствия, которое мятежники утвердили на гранях британских штыков — и эта страна повергала его в ступор. Там, в этой Испании, цвели рекламы таинственной «Кока–колы» — большие самозваные луны, похожие на мармелад — и юнцы таращились на них как на чудо, застывая от изумления посреди загаженной мостовой. Там полуголые девки с киноафиш зазывали народ на пошлейшие голливудские мелодрамы, и народ послушно выстраивался у касс, лихорадочный, как морфинист, раздобывший денег на новую порцию зелья. Там торговали мерзейшим американским ширпотребом, сваленным в огромные кучи прямо на мостовую, и люди чуть не дрались за эти тряпки, протягивая богатеющим спекулянтам мятые песеты, серебряные ложки, часы с боем и живых ошарашенных кур. Торг был повсюду, дикий, необузданный торг: здесь остатки испанской чести выменивались на развлечения и еду. В Валенсии офицеры сбывали пьяным английским матросам свои ордена — звезды его Империи, добытые в боях с этими же матросами, а теперь отвергнутые ради вина и ласки портовых шлюх. В Мурсии горожане, напирая и отпихивая друг друга, расхватывали билетики мгновенной лотереи и были счастливы, выиграв кофемолку или пару зеленых носков. В Картахене по Пласа Аюнтамьенто расхаживал человек–реклама в костюме цыпленка, с табличкой «Птицеферма Санчеса» на груди, и зеваки хватались за животы, когда этот желтокрылый гаер принимался вытанцовывать для них неуклюжую сегидилью. Авельянеда еще мог смириться с падением орлов, но с возвеличиванием куриц — никогда. Он был в отчаянии. Его народ, вчерашние сверхчеловеки, вновь обратился в плебеев, и обратился с радостью, словно только того и ждал. Это было сродни еще одному поражению — быть может, горчайшему из всех.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.


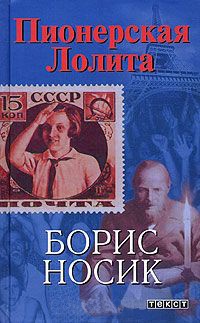
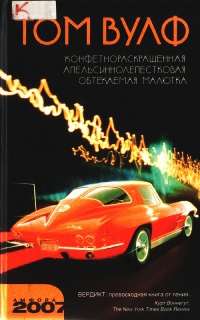

Комментарии