Предел забвения - Сергей Лебедев Страница 2
Предел забвения - Сергей Лебедев читать онлайн бесплатно
Ознакомительный фрагмент
Березы, снег, дрова, небо, дорога, огонь, дым, мороз — я повторял про себя слова, которые помнил чуть меньший срок, чем помнил себя. Березы, снег, дрова, небо, дорога, огонь, дым, мороз — слова разрастались, слова были материальны, как материальна энергия; слова звучали симфонически, одно сквозь другое, но не смешивались, и мороз был морозен, огонь — огнен, дым — дымен; слова становились просвечивающимися, чуть плоящимися, как чистое пламя, их фонетические оболочки теряли затверженную четкость, и взгляду представало чистое вещество значений — как пузырек воздуха в драгоценном камне, по-иному преломляющий свет.
Пузырек воздуха, который на мгновение, но старше самого камня — воздух уже был, когда минерал еще не возник. Вот этот малый вдох старшего воздуха, неотъемлемая душа слова — он и делал слово настоящим, причастным жизни и смерти, — так я увидел и почувствовал тогда, в заснеженной деревне, где белая крыша школы покрылась пятнами книжного пепла — учебники горели дымно и грязно, и пепел был металлически-сальным от густой типографской краски.
Я узнал, что русский язык — моя родина, мое отечество; те, кто населяет русский язык — мои сограждане, мои товарищи. И то, что я теперь пишу, я пишу не по праву памяти, а по праву языка; язык живет тем, что должно быть на нем сказано. Я вижу и вспоминаю; эти строки необходимы мне, как пианисту нужно коснуться клавиш, проверяя податливость тишины, прежде чем играть; за ними я слышу звук идущих из темноты букв.
Здесь, на пределе Европы, я вижу на пляже людей, прекрасных, как нереиды или дриады греческой мифологии, сращивавшей человека с животным или растением, чтобы получить бессмертное существо. В сугубо человеческой красоте есть уязвимость, предчувствие умирания, которые и определяют ее индивидуальность. А в красоте растения или животного нет трагической ноты, родовое заменяет в ней индивидуальное. И купающиеся на пляже ближе к дельфинам или орхидеям: движение, цветение, покой, нега, отдохновение. Но едва скрывается солнце, они уходят и никогда не узнают, что в сумерках пляж слишком похож на помпейский прах — прилив разглаживает остывающий песок, смывая отпечатки бедер, локтей, ступней.
Я вижу игроков в гольф, бесконечно повторяющих урок Декартовой геометрии, урок артикуляции пространства, уловления его в сетку координат. Я представляю их посреди тундры с мячом и клюшками — и мне кажется, они застынут, пораженные: бывает столько пространства, что им нельзя обладать даже в воображении; они оставят свою игру, пойдут в разные стороны, чтобы убедиться, что видимое ими — не декорация, и никогда больше не сойдутся вместе, потому что там, где на квадратный километр, по данным статистики, приходится меньше одной сотой человека, они расщепятся на эти сотые, тысячные, станут погрешностью, затеряются, как третьи или четвертые цифры после запятой, которыми можно пренебречь в расчетах.
Я вижу кафе у океана, где каждый вечер крепчающий бриз спутывает обрывки разговоров на десяти языках, играет ими, словно синхронист-переводчик на конференции, включающий на громкую связь то французскую, то немецкую, то польскую речь, — и вспоминаю кладбище ссыльных, где так же смешивались разноязычные имена, которые произносил человек, по собственной воле ставший там сторожем. Не было ни крестов, ни оград, ни могил, только едва заметные ровики, заплывшие влажной весенней землей, над которыми он на память проговаривал имена. Чуждые этим местам созвучия падали в землю как семена, и казалось, будто это молитва, сложенная единственным выжившим, почти утратившим память и разум, чтобы вместить тех, кому не было иного приюта в мире.
Я вижу ровный асфальт шоссе — и вспоминаю северный тракт, который вел на золотые прииски. По нему катили вахтовые «Уралы» и «КамАЗы», вездеходы, бульдозеры, обочины его напитались солярным выхлопом, заветрились до маслянистой корочки, хрустящей под сапогом. Мощные машины шли поодиночке и караванами, из высокой кабины было видно, как разбегаются от шума моторов тундровые зайцы, взлетают куропатки, уходит, буровя воду, рыба вверх по ручьям; казалось, что низинная, рождающая лишь чахоточные деревья, эта местность замирала при виде рубчатых колес и лоснящихся бульдозерных ножей, готовых растоптать мхи и ягодники, вспороть тонкую почву.
Но вдруг за крутым спуском открывалась Царь-Лужа — так ее называли все шоферы. Одни говорили, что это место проклято шаманами, мстившими за то, что в священной горе пробили штольни на золото, другие — что здесь был олений мор, третьи — что в пургу тут замерз целый этап, несколько сот арестантов, которых гнали на прииски в сороковые годы. Вообще-то шоферы были народ тертый, несуеверный, не верящий ни в Бога, ни в черта, но человеческий разум и в самом деле не мог справиться со зрелищем Царь-Лужи: казалось, что это место отмечено особой печатью, у него есть свой страшный и мстительный характер, спящий зимой и в летнюю сушь, но просыпающийся, когда тает снег или идут затяжные дожди.
Объехать Царь-Лужу было невозможно: длинная полоса заболоченной земли, напитанной водами тающей вечной мерзлоты, тянулась между двумя грядами холмов на сотню километров. И когда машины тормозили, не доезжая до края Царь-Лужи, взгляду представала драма места: земля окрест будто ходила ходуном, все было залито гниющей, ржавой водой, из которой торчали измочаленные гусеницами, растерзанные в щепу бревна и доски, исцарапанные железом камни, раздавленные бочки саперных понтонов, которыми кто-то пытался замостить Лужу, исчезающие островки гравия и песка — следы попыток сделать насыпь через земляную прорву. В стороне выступал из болота теряющий последнюю краску череп тракторной кабины, высилась погнутая стрела подъемного крана. А по берегам Лужи рос диковинный лес: десятки вбитых в землю железных труб и бетонных свай, часть из которых была выворочена, — на них набрасывали петли лебедок с застрявших машин. Тут же валялись разлохмаченные, каждый с десятком узлов, лопнувшие тросы, не выдержавшие мертвой хватки Лужи. Если подойти ближе, ступая осторожно, чтобы сапог не ушел в подсохшую клейкую жижу, можно было увидеть остатки малых драм, отчаянных попыток переправиться, когда на приисках вставала работа; нужны были топливо, взрывчатка, еда, а в аэропорту непогода прижимала к бетонке вертолеты, и начальство снаряжало в путь две-три машины, суля шоферам все, что те попросят, лишь бы груз был доставлен по назначению.
Так возникла среди шоферов каста знатоков Лужи, северных авгуров, гадавших по уровню воды, по звериным следам на поверхности Лужи — считалось, что лось или косуля выберут самый сухой путь; одни уезжали в сторону, чтобы рискнуть в новом месте, их машины долго потом тянули тракторами на берег; большинство же пробовали переправиться по старой колее. Следы этих переправ и были видны с края Лужи: рассыпанные консервы, вдавленные колесами ватники, доски с бортов машин, жесть, которой обивались вахтовые фургоны, скамьи, печки — все бросалось в колею, чтобы машина шла, и все неустанно поглощала Лужа. Иногда Лужу вспучивало, на ее поверхности появлялись истлевшие, переваренные соками земли вещи-мертвецы; словно подавившись, Лужа исторгала из себя брезент, шифер, буровые трубы, прикипевшие друг к другу, спаявшиеся в гигантские подобия выкорчеванных пней, выплевывала мусор, выкинутый в нее, бутылки, пакеты, выдавливала с комом земли скелет лисы, польстившейся на объедки, и снова за день или за два заглатывала исторгнутое.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
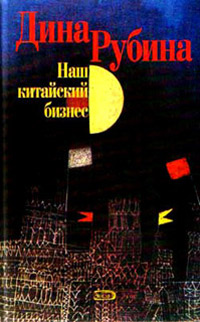




Комментарии