Пустырь - Анатолий Рясов Страница 2
Пустырь - Анатолий Рясов читать онлайн бесплатно
Ознакомительный фрагмент
[3]. Пустырь в Волглом: Волглое на пустыре
Действие романа происходит в деревне под названием Волглое. Владимир Даль позволяет нам прочитать это прилагательное как напитавшийся влагою, сырой, отсырелый, водянистый. Герои романа, мог бы продолжить Даль, обречены на то, чтобы волгнуть, то есть: набирать влагу, мокроту, сырость. Кажется, что именно таким образом и следовало бы назвать роман, используя подсказываемую словом метафору сырости. Но роман назван иначе, и мы попробуем посмотреть – почему.
Поначалу, по всем меркам, Волглое – омерзительно. Туда не хочется и там бы не оказаться. Но вместо того, чтобы сразу же побежать за непонятным желанием убежать, следует задуматься: неужто мы так не верим в «хорошего человека», что встреча оного в недолжных декорациях может пройти незамеченной? Есть и иная опасность, ведь можно поддаться мазохистскому пафосу и заставлять себя – посредством морального или физического самобичевания – любить всю встречаемую на нашем пути мерзость. Кстати, в «Пустыре», если и являются намёки на подобные настроения, то они совершенно декоративны и не имеют решающего значения. Ведь можно жить в деревне и воспринимать её как свою единственную доступную реальность. Или не воспринимать – приукрашивая для себя или усугубляя до невозможности – всё равно ничего не изменится. И поэтому Волглое следует просто принять, и автор даёт нам возможность принимать всё как должное с самого начала – перед нами герой, который видит такую деревню впервые. Возможно, он видел множество подобных деревень до этого, и поэтому он мог бы не удивляться. Мы не знаем, но он не удивляется. Возможно, он не видел ни одной вообще, и поэтому мог бы удивиться. Но он не удивляется, потому что вообще происходящее в этом романе просто происходит. Удивление наше или же, напротив, его отсутствие мало на что влияют. Люди обречены на простоту, и они могут принять всё что угодно – кроме того, на что они обречены. Но, следует повторить здесь: ничего иного у них никогда и не было. Перед нами – в этом смысле – предельный опыт человеческого бытия.
Самое интересное, что люди, обречённые волгнуть, не могут просто волгнуть – с ними должно что-то произойти и, более того, происходит. И то, что должно с ними произойти и то, что с ними происходит может не совпадать между собой. И это – тоже происшествие. Пожалуй, основное и главное происшествие, которое здесь разворачивается. Попытка схватить это происшествие предметно, разобраться с ним и перейти к следующему – не удаётся. Такая попытка в любом случае обречена на провал и в руках окажется пустота. И в мыслях окажется пустота.
Роман называется не «Деревня», не «Волглое», не «Сырость», не «Мокрота» потому что всё вышеперечисленное – и даже гниение заживо – это обстоятельство, происшествия и случайности, в то время как используя всё это в качестве подручных средств, случается человеческая жизнь – самое значительное, что только и может произойти. И – самое ничтожное, что только и может случиться. Там где люди, там на кону – существеннейшее, понятое как пустое и пустое, предстающее самым главным, ради чего можно даже потерять эту самую жизнь. Попытка вписать жизнь человека в случающиеся с ним обстоятельства – это всё равно, что через декорации объяснять реплики актёров. Но, возразит читатель, так можно же делать! Конечно, так можно делать и так чаще всего и делают. По выстроенным декорациям первых фраз мы уже узнаём детектив перед нами или драма, верх совершенства в такого рода «искусстве» (многажды и всерьёз исследованном Умберто Эко) – это сделать декорации узнаваемыми, а жанр трудноопределимым. Но мы не спрашиваем о том, чего можно и чего нельзя. Мы спрашиваем: разве не ничтожна радость узнавания случающегося с тобой по декорациям, в которых ты обитаешь? Разве это – не пустое?
Роман мог бы быть назван по любому из используемых в качестве синонимичных «пустырю» слов. Перед нами – «Пустошь», «Граница», «Предел», «Путь», «Зима». Особенно – «Болотный котлован» (здесь нельзя не вспомнить – и уже вполне обоснованно – Андрея Платонова). Нет, конечно, Волглое – это не пустырь, пустырь подступает к Волглому с одной из сторон (с другой стороны – река, и она даже с трёх других сторон, обрамляет деревню). Более того, за пустырем – кладбище, мёртвые люди, а в Волглом – живые. Но любители выстраивать структуралистские схемы, могут расслабиться, ведь пустырь – это не часть романа, но он сам и есть.
[4]. Тотальность сна…
Волглое в «Пустыре» – это не некоторое место, которое можно было бы покинуть, отмахнуться от него и забыть. И, хотя это – деревня, но, однако же, не «местечко». Универсум Волглого тотален. Местячковым делается каждый текст, претендующий на глобальный размах – тем самым он определяет себя (желает того или нет) на «всего лишь историю, которая случилась и кончилась». Но в Волглом ничего не случилось, точнее – там ничего не начинало случаться такого, чтобы затем, продолжившись, оно могло закончиться: «угасающее существование не даёт смерти». Перед нами тотальность постоянного скончания, без разворачивания жизни, без начинания такого разворачивания, без надежды на такое начинание. Говоря словами Рясова – это то самое удивительное, что происходит в сновидении, но при этом способно его прервать; это часть сновидения, одна из многих иных, которая пробуждает нас, не позволяя более встретить ничего иного, кроме увиденного. Это – «намёки на жизнь как на сон», которые, оставаясь всего лишь намёками, не получая своего законно причитающегося намекаемого, заполоняют всё. Здесь «реальность застигнута во время сна», но куда ей просыпаться, если сама реальность спит? Реальность застигнута во время сна – это значит, что реальное – это то, что «бодрствует внутри своих снов». Реалии Волглого «не исчезают, даже когда мы закроем глаза». И, казалось бы, что краски сгущены донельзя и так нельзя, это лишь болезненные фантазии автора и много чего ещё – в том же духе нескончаемого идиотского всепозитива. Но за всем этим может скрываться одна простая мудрость, к которой, как и ко всему простому, ведёт самый извилистый и замысловатый, фактически – немыслимый – путь через лес наших заблуждений. Можно выразить её так: «пожить среди людей – приучить глаза к мраку». Всё происходит в сумеречном свете нескончаемого завершения – от первой до последней строки. Это время суток (вечер) и это время года (поздняя осень), когда явь начинает сменяться сном, но никакой преграды между ними ещё не существует. В реалиях Волглого это «ещё» нестерпимо длится. Собственно, только оно и умеет длить себя. Все остальные кончатся ещё прежде, чем будет поставлена последняя точка -
[5]… и неуместность пробуждения
– хотя бы потому, что роман начинается с конца. И в этом нет ничего нового. Но кто сегодня и вообще когда-либо интересовался в литературе новым? Не есть ли требование новаторства, примеряемое нами к современным романам, чужеродный приёмыш, пришедший невесть откуда, чтобы потребовать чего-то своего у чужих ему людей – и сгинуть в никуда? Мы, сидящие в литературной крепости, во флоберовской башне из слоновой кости, какой приём должны мы оказывать хамству проникающих к нам снаружи, с нелитературной наружи, требований выйти и заплатить по давним счетам. В «Пустыре» не случится ничего нового, напротив: там обречено на происхождение то, что и так постоянно, вновь и вновь свершается, независимо от того: видим мы свершающееся или нет. Какой тогда смысл писать о том, что и так будет происходить – напишем мы об этом или нет? Но в том-то и дело: когда мы обратим на свершающееся внимание, оно изменяется. Надо только суметь это сделать: увидеть ближайшее, которое для нас дальше всего. Надо оставить мать свою и отца своего, и братьев своих и сестёр своих – и отправиться в путь к тому, что только и есть: к ближайшему. Ведь чаще всего самое близкое неимоверно отстоит от нас. И здесь уже не до требований новаторства. Я, свершившийся здесь и сейчас – я новый или нет?
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.


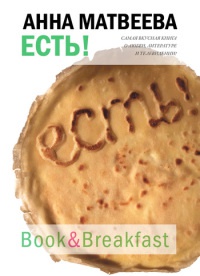
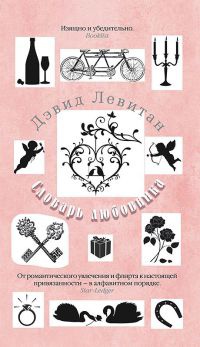

Комментарии