За что мы любим женщин - Мирча Кэртэреску Страница 2
За что мы любим женщин - Мирча Кэртэреску читать онлайн бесплатно
Ознакомительный фрагмент
Девушка не то что была красива, она была просто осязаемым образом красоты. Мне не под силу разобраться, что это было: эстетический, вне психологии, объект или, наоборот, продукт психики, ничего материального, в чистом виде проекция восхищенных взглядов тех, кто сидел в вагоне. Глядя на нее, я понял, отчего говорят, что «красота забирает», мы все были ее заложники и как будто бы ждали, что с минуты на минуту свершится жертвоприношение — мы все по очереди пойдем под нож. И это притом, что скромность и невинность были ее единственным оружием.
Не могу сказать, когда она появилась в вагоне, но вышла там же, где я, на площади Кеннеди, с магазинами-люкс и пальмами, и, держа осанку, ступая в сари, облегающем ее плечи и ягодицы, растворилась в многосложном свете дня. Не раз после того я думал, что, пойди я за ней и прикоснись к ее шелковой оболочке, она бы обернулась не от прикосновения, а оттого, что почувствовала бы, как перетекает от нее в меня, в мои пальцы, частичка ее неведомой и мистической внутренней силы…
Вот только сейчас я заметил, что как женщины, описанные Сэлинджером в двух словах (до чего экспрессивно: она еще бросила зажигалку в дельфина!), так и та, которую я не сумел описать на целой странице, являются вблизи моря. И так оно и должно быть, мне кажется, потому что при мысли о стиле (который есть грация, волнообразное движение в унисон с колыханием всего мира, когда плывешь по течению, нисколько ему не противясь, следуя меандрам пустот и полнот) один и тот же образ всегда возникает в мозгу: длинные водоросли, которые вздымаются и опадают, которые перегибает, вытягивает и сплющивает током зеленой студенистой воды на дне морей.
Ты ничего не можешь сделать, чтобы обзавестись стилем. Потому что к стилю применим не глагол иметь, а глагол быть. Стиль сидит энграммой в инженерии твоего позвоночного столба, в динамике флюидов твоего тела, в световом пятне на бархате твоего зрачка. В мудрости твоего разума, который подается вперед, когда подается вперед вселенная, и отступает, когда отступает вселенная.
Когда я познакомился с Д. (которую в одном из рассказов назвал Джиной), я считал себя суперчемпионом по части видения снов. К ночи я готовился, как боксер к гала-выступлению на ринге, когда он предстает перед соперником в своем бриллиантовом поясе. Мне казалось, что я отправил в нокаут Мендиаргеса, Жан-Поля, Гофмана, Тика, Нерваля, Новалиса, по очкам опередил Кафку и вывел из игры (в шестнадцатом раунде) Димова. Каждая книга, которую я тогда читал, была отжатой штангой, каждый стих — эспандером, каждая прогулка — долгим циклом флотаций, каждый взгляд (я вперивался в колпачок авторучки или в точилку, ото всего отрешась и так интенсивно, что эти штучки становились видны сразу со всех сторон, в объеме, и воспринимались осязаемо, в химизме их поверхностей из металла и пластика, как будто не находились за пределами моего тела, но левитировали в золотистом воздухе разума) — упражнение на концентрацию для предстоящей ночи, тренировка для новой партии в сон.
Д. была просто прелесть, и если я раз написал о ней, что она спала с широко раскрытыми глазами, не надо воспринимать это как авторский вымысел. Так оно и было. В нашей долгой истории нам выпало не слишком много общих ночей, и когда они начались, все было уже кончено — как моя отчаянная любовь к ней, так и рассказ про Джину. Не могу передать, до чего грустно мне было заниматься любовью со своим собственным персонажем, а не с девушкой, ради которой я когда-то дал бы заживо содрать с себя кожу. Но всякий раз, как мы ночевали вместе, я просыпался среди ночи и видел, как она смотрит в потолок, не мигая, а глаза поблескивают в слабом свете, идущем от окна.
В первый раз я увидел, как она вот так спит, в Кокирлени, куда наш факультет по слали на сельхозпрактику, собирать виноград. Каждый день мы шли на виноградник в сопровождении языческого сатира (по имени Подго, голого и лохматого) и блаженного архангела («отца» Иоана Александру) и часов через шесть всех и всяческих ля-ля возвращались по домам. Уже через неделю никто бы не смог сказать, которая там спальня девочек и которая — мальчиков. Мы полностью перемешались. Однажды Д. послала меня что-то ей купить — мы были тогда всего лишь коллеги, может быть, чуть больше — и с покупкой я зашел в спальню к девчонкам. Хаос там был неописуемый: одна делала себе педикюр, другая прыскала в трусы интим-спреем, еще одна лизалась со своим парнем (сейчас его уже нет в живых), а Мира с Альтамирой (думаете — выдумка? А вот и нет, они и по сей день живут вместе) лежали в обнимку под простыней. Д. растянулась на втором ярусе. Я встал на край нижней кровати, чтобы быть поближе к ней: она лежала навытяжку, как барельеф на этрусском саркофаге и смотрела прямо на меня. Надо сказать, что у Д. были самые красивые золотистого цвета глаза, какие только можно представить, с загнутыми, как крючочки, ресницами. Сейчас уже не то. Сейчас, при встрече, я узнаю ее по губам (вот их не спутаешь ни с чьими), не по глазам. Я сказал ей что-то, она молча смотрела на меня с таким видом, будто внимательно слушает, но по непонятным причинам не может вникнуть в смысл моих слов. Минуты две, наверное, я пытался их ей растолковать. Я смутно чувствовал, что что-то не в порядке, но, как в абсурдной ситуации из сна, не улавливал, в чем тут ошибка. Наконец одна наша коллега бросила мне как бы вскользь: «Оставь ее в покое, не видишь что ли — она спит. Она так спит, с открытыми глазами». И в эту минуту (поскольку Д. по-прежнему смотрела мне в глаза самым естественным образом) у меня было отчетливое чувство, в дальнейшем ни разу не повторявшееся, что это мне снится. И что, может быть, вся моя жизнь до сих пор была сном.
Но на следующую ночь, которую мы с Д. до утра провели на люцерновом поле, опустошив бутылку водки и промяв в люцерне прогалину солидных размеров (я в первый раз узнал тогда, как нежны на ощупь волосы на девичьем лобке), состоялся гиперсон, а в последующие годы — ряд снов один в другом, как лакированные китайские шкатулки. Бедняк и скептик, сын рабочего класса, познакомился с принцессой и т. п. Что я хочу написать здесь, поскольку остальное уже ввел в книги, — это то, чего не возьмет никакая литература, потому что, по выражению Кафки, «это предмет не для слов».
Я бы никогда не влюбился в Д., будь она просто очень красивой или будь тут фактором притяжения хоромы, где она жила (когда я в первый раз попал в ее дом, сплошь увешанный иконами на стекле, мне померещилось, что там в буквальном смысле десятки комнат), или из-за ее обворожительных прикидов и косметики. Я бы не влюбился в нее даже за то, что однажды, когда провожал ее, как обычно, до дому, снежным декабрем, она остановилась на маленькой треугольной площади, освещаемой только одной подслеповатой лампочкой, сунула мокрые ручонки мне в карманы брюк и в полумраке посмотрела мне в глаза, ничего не говоря, а в свете от лампочки снег валил с необыкновенной яростью. За это я люблю ее только теперь. Правда в том, что Д. соблазнила меня (мощно и убедительно, скорее как мужчина соблазняет женщину) своей особой способностью видеть сны.
Д. не отличалась умом, многие считали ее просто гусыней и театрально сочувствовали моей неудачной связи. Иногда она в самом деле брякала такое, что уши вяли. Верность мне она тоже отнюдь не хранила. Наоборот, кокетничала с другими до опупения и непременно, с садизмом, всегда отчитывалась передо мной, с кем она была. Но как сновидица она превосходила меня в весовой категории и побивала меня в каждом поединке. Никогда, ни у кого (включая Нерваля, Жан-Поля и всех остальных вышеупомянутых) я не встречал снов такой силы, такой… архитектуры, так прочно стоящих на земле тяжелыми львиными лапами и все же возведенных на облаках и на голубом небе. Когда она рассказывала мне очередной сон, я визуализировал его так подробно, что после мне казалось, будто это я сам его увидел. Не раз, дойдя до ее дома — обычно вечером, после семинара, — мы входили в парадное и садились на мраморные ступеньки, в полумраке, еле различая глаза друг друга. Она закуривала и начинала рассказывать. Глаза у нее блестели из-под загнутых ресниц, как в сцене с пустым баром из Citizen Kane. Один сон в ее пересказе длился самое меньшее полчаса, но мне казалось, как в той восточной сказке, что он длится несколько жизней, прошедших или будущих. Когда я, уходя, закрывал за собой тяжелую, кованую дверь, я каждый раз думал, как мне дожить до завтрашнего дня, когда мы снова увидимся на занятиях.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

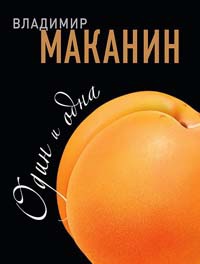

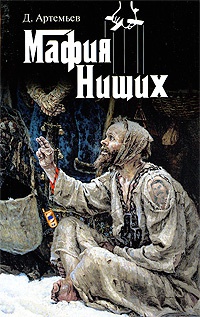

Комментарии