Соучастник - Дердь Конрад Страница 18
Соучастник - Дердь Конрад читать онлайн бесплатно
Ознакомительный фрагмент
23
Со стен дома, в котором жил в последние годы мой дед по матери, годы съели почти всю штукатурку. Внизу — бутовый камень, вверху — глина; но столбы на крыльце уверенно держат далеко выдвинутый край седловидной крыши. Выйдя после войны из лагеря для интернированных, дед поселился здесь; дом он покрыл черепицей, но низкую потолочную балку, арочные двери, окруженные яркими эмалевыми тарелками, и камин в большой комнате оставил как было. Так же как и стол на козлах, и сундук в углу. Сам неверующий, в дни крестного хода он ставил в окно цветы и горящие свечи, как делаю и я: пускай не смотрят на нас осуждающе старушонки в черных шалях, с молитвенниками в покрытых пигментными пятнами руках, когда под их выходными ботинками тихо скрежещет на нашей улице щебень.
Не слезая с велосипеда, я распахиваю створку ворот, болтающуюся на лопнувшей железной петле, и въезжаю на зеленый двор; высокая, до осей, трава шуршит по спицам. Пора бы косить: весной было много дождей, сад покрыт буйной, мясистой зеленью. Крапива заполонила развалины сарая и погреба, плотной массой окружила уборную, жгучие ее листья уже достают до пояса. Я прислоняю велосипед к колодцу; деревянное ведро, стянутое ржавыми обручами, уже позеленело. В этом году будет мало вишни: ветер унес куда-то шмелей, оставшиеся опыляют цветы едва-едва.
В дальнем углу сада с задумчивым видом стоит в густой люцерне кобыла Борка, хлещет хвостом по бокам, отгоняя слепней. Острые ее зубы уже нет смысла подпиливать, нет такой ярмарки, где бы ее купили. На холке торчат острые кости; Борка на два дюйма ниже лошадей, которых ставят в упряжку, но сосед много земли на ней вспахал. В руке у меня кусочек сахара, кобыла радостно ржет, волоски у нее в ноздрях уже поседели. Я треплю ее по лохматой спине, она дружелюбно роняет на землю ядовито-зеленое дерьмо. У нее есть право являться ко мне в любое время, по утрам она просовывает морду в открытое окно ко мне и укоризненно смотрит, как я валяюсь в постели. Мол, просыпайся давай, у меня тоже дел по горло. В самом деле, ей надо ехать за сеном для двух соседских бычков, которые очень даже не против, когда я чешу им плотную белую шерсть между рогами. И еще надо привезти корм свиноматке, которую розовые, с черными пятнами поросята сосут с таким остервенением, что не замечают мух, садящихся им прямо на глаза.
В тех редких случаях, когда директор отпускает меня на целый день, я запрягаю Борку в пестро раскрашенную тележку, которую беру у соседа. В задок телеги укладываются брезент, попона, топорик, связка сухого репейника, веревка, кусок сала, хлеб, фляжка с водой. Проформы ради я взмахиваю кнутом с ручкой из розового дерева, и мы отправляемся в путь-дорогу. Мы трусим под дикими каштанами, телега тихо побрякивает, Борка объезжает ухабы на дороге. Я смахиваю оводов у нее с боков; по лунному небу каждые четверть часа проносятся сигнальные огни истребителей. Я еду вдоль многокилометрового пшеничного поля, срываю время от времени колосок, жую недоспевшие, мягкие зерна, на боку телеги висит фонарь. Мимо проезжают грузовики, пароконные упряжки, но Борку это ничуть не нервирует. Она даже не смотрит на раскормленных, с лоснящимися крупами лошадей, свой предел сил она знает — я вижу, как раскачивается хомут, когда она, даже на пологих подъемах, налегает на подпругу. Мы сворачиваем на дамбу, что тянется вдоль реки, и, найдя звериное лежбище, устраиваемся на ночлег. Топор я кладу в сено, чтобы был под рукой. Рою ямку в земле, развожу костерок, румянится лук на сале, тушатся в перечном соку кусочки мяса.
Борка и во сне хрустит сеном; она чувствует, когда мне снятся плохие сны. Утром мы купаемся, я растираю Борку пучком жесткой травы, серпом нарезаю ей люцерны. В ней нет ни капли недоброжелательства, она не лягается, не хитрит; всю свою жизнь она только трудилась. Дым, близкую опасность, жестокого человека она чует издали. Если надо, она напрягает все жилы, но как только мы останавливаемся, выталкивает языком удила и принимается жевать траву, сорванную на обочине. Если я скажу: «Ни с места», — она стоит, как статуя; сумасшедший и старая кляча, мы застываем под черными ветками.
24
Я сижу в саду, на каменном древнеримском надгробии, которому две тысячи лет; может быть, сегодня вечером я уеду в город, а может, я только фантазирую, сидя на камне, что уеду сегодня в город. Город стал подобием моего мозга: улицы его — мои мысли; я могу путешествовать сразу в стольких местах, что, пожалуй, и отправляться туда нет смысла. Мир в пространстве за моим лбом непостижимо мал — и неизмеримо огромен; сознание мое летает в этом пространстве, будто муха в мясной лавке. Я пришел в гости, я тут довольно давно — у меня зреет подозрение, что пора бы и честь знать. Я устал и состарился, я ничего не желаю от этого мира — только уйти из него, производя как можно меньше шума. Вот и Анне надоело хватать ртом воздух: достаточно его уже прошло через ее легкие. Иной раз живые завидуют мертвым, как ночной вагоновожатый — дневным своим пассажирам, что сейчас спят дома, за темными окнами. Сколько бессмысленных телодвижений я совершил, сколько кроватей пришлось испытать на прочность, сколько глупостей допустить, чтобы, выйдя из тишины, кануть назад в тишину; и даже чтобы уйти сейчас в дом, под коричневые потолочные балки, и лечь в крестьянскую постель. Мне всегда казалось, что должно прийти еще что-то, более интересное. Мне почти все равно, я бил или меня били, в конном экипаже путешествовал или на самолете: важно было нестись куда-то, спорить, драться, доказывать.
Когда меня обступали со всех сторон и прыгали на меня, стараясь попасть каблуками по ребрам, было плохо. Когда мучители устали и отошли, было хорошо. Объединим философию ценности и память тела. Когда я, согнув колени, лежу на правом боку и ко мне мягко прижимается — так, что в левой ладони я держу ее грудь — именно то тело, которое успокаивает мое беспорядочное сердцебиение, — это хорошо. Но если она должна уехать и больше я ее не увижу, — это очень плохо. Бывают часы, когда я вообще никого не сужу. В годы своей революционной молодости я не всегда был при оружии, но произнести пламенную речь всегда был готов. Я хотел изменять других, чтобы они сильнее походили на меня. Собственные истины трогали меня чуть не до слез, несогласие, пускай даже робкое, воспринималось как оскорбление, а нравственности у меня было столько, сколько ее бывает у сильно выпившего человека. Сейчас я предпочитаю крошить в свою трубку чешуйки дикой конопли, что растет в придорожных канавах, — это лучше спиртного в такой же степени, в какой скромный человек лучше бесстыжего. К старости я угомонился, — наверное, потому, что достаточно уже убивал; вот и вчера я совершил убийство, пускай из самых благих побуждений. Мозг мой в последнее время самостоятельно выдает готовые наблюдения: сейчас под лбом моим шелестят листвой тополя, а через минуту целое стадо поросят жрет помои.
В деревне раздается колокольный звон: кого-то хоронят. На вершине холма стоят в изголовьях могил растрескавшиеся деревянные надгробья. Над разверстой могилой визгливо причитают старухи в черном; душа усопшего возносится в небеса, она — ни белая, ни черная, все равно что дикий гусь. Старухи для своих похорон получают небольшую отсрочку; их мужья, там, внизу, уже наслаждаются мужской свободой. Но в одиночестве тоже есть своя теплая сырость, и кости на удивление быстро находят друг друга. Верхушка холма набита покойниками, им там тесно и скучно, плазменной плотью своей они бесчувственно проплывают друг через друга. Компания их — компания закрытого типа, за неимением занятия более увлекательного она ждет нас. Мы им интересны; хладнокровные наблюдатели, они оттуда, с высоты птичьего полета, держат в поле зрения нашу муравьиную суету. Они насквозь видят и мои скучные тайны, им известно лучше меня, к чему меня тянет; спокойный их дух понимает суть мою так полно, что меня пробирает дрожь. Хотя я никого ни о чем не извещал, я призываю родные тени: пусть каждый, к кому я имел отношение, придет и сядет рядом со мной на скамью.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

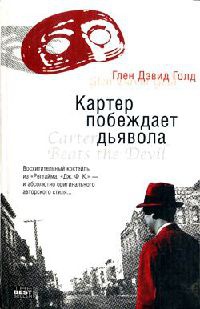

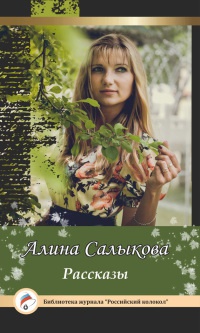

Комментарии