Тайная вечеря - Павел Хюлле Страница 18
Тайная вечеря - Павел Хюлле читать онлайн бесплатно
Отец выходил проветриться. Только в метель или очень уж ненастную погоду отступал от этого обычая. Тогда он выпивал стакан-другой самогона, ложился спать, и в доме воцарялся покой. Но обычно, проветрившись, возвращался — далеко за полночь, пьяный в дым, озлобленный на весь белый свет, и перечислял все материны измены до свадьбы. Перечисление Казиков, Сташеков, Бартеков, Янеков, Енджеев и Антеков звучало как литания Святейшему Сердцу Иисуса, а затем начиналось избиение. Иногда матери удавалось защититься, но редко. Позже, когда уже смолкал грохот, звуки ударов, проклятия и крики, дети слышали ужасный, звериный отцовский храп и тихие безутешные рыдания матери.
Как-то зимней ночью, после очередной расправы, Франек произнес в темноте их комнатушки:
— Надо его убить.
Кароль промолчал. Возможно, потому, что был самый старший и, если б сказал свое слово, им, наверно, пришлось бы это сделать.
Зато Янек, младший, после долгого молчания сказал:
— Да, он хуже, чем euer hochwohlgeboren барон Адольф фон Котвиц.
Сейчас, глядя из окна «сааба» на огромную рекламу собственной фирмы, которая закрывала несколько этажей безобразного административного здания времен Гомулки (опять у него вызвали раздражение буквы F&F, вылетающие из-под хвостов альпийских коров), Ян Выбранский тщетно пытался сообразить, откуда им было известно это немецкое выражение. Во всей Поганче не нашлось бы никого, кто сумел бы сказать хоть одну фразу по-немецки. В отличие от Нового порта, куда они перебрались, когда отца взяли столяром на верфь имени Ленина.
— Мы влипли, шеф. — У пана Здислава в левом ухе был наушник, и он слушал новости. — Очередной взрыв! Весь центр заблокирован! Ни взад ни вперед, часа два тут проторчим! Хотите послушать?
— Нет, — прозвучал односложный ответ. — Я должен позвонить.
Короткая беседа с женой носила деловой характер. Идея, чтобы она на своей машине спустилась с холма Олимпийского поселка к садовнику, где бы они встретились и, как договаривались, купили все, что нужно, неосуществима. Затор, будто гигантский осьминог, душил уже все артерии города, вплоть до ближайших предместий. Саженцам китайских роз из Голландии придется подождать. Она останется дома. Он как-нибудь доберется до своей конторы.
— У тебя нет свежей рубашки, — констатировала пани Зофья.
— Заседание правления будет отменено, — объяснил он, — на ланч мне идти не обязательно, ну а в театре, — пошутил он, — наверняка найдется во что переодеться!
— Сегодня премьера? — на этот раз в ее тоне прозвучали злобные нотки. — Ты мне ничего не сказал. А может быть, — она заколебалась, — ты просто…
— Нет, — перебил он жену, — ошибаешься. Матеуш, ты ведь его помнишь, собрался писать картину. Большую, да. Ему нужны натурщики. Двенадцать человек. Он пригласил знакомых. Старых знакомых. Я тебе не говорил? Намерен усадить нас за стол на пустой сцене и сфотографировать. Всех вместе и каждого по отдельности. Вот уж будет катавасия! Почему выбрал именно эту тему? Откуда мне знать. Может, оттого, что немодная. Представляешь, — он засмеялся, — я буду Иудой. Нет, я не против. Ну ладно, созвонимся еще, пока, — закончил он, все-таки почувствовав раздражение.
А раздражение Ян Выбранский почувствовал не потому, что пани Зофья заподозрила его в обмане, и не потому, что не знала о забитом рубашками, костюмами и бельем гардеробе в его апартаментах на Зерновом острове. Он сообразил, что снова оговорился — употребил слово из прошлого времени, чего избегал как огня много лет, с тех самых пор, как сжег за собой все мосты, ведущие в Поганчу и из Поганчи. Кошмар: хотел сказать «кавардак», а выскочило — «катавасия» [34].
Аналитический ум Яна Выбранского немедленно установил, что заставило его совершить оплошность. Если бы он не заговорил с женой о встрече в театре, где ему предстояло перевоплотиться (на каких-то несколько минут, ради благого дела, и тем не менее…) в одного из двенадцати апостолов, воспоминание из далекого детства осталось бы в недрах памяти. Но именно из-за этого разговора перед глазами вновь появилась горница в бывшей приусадебной постройке, где над кроватью родителей Иисус, обхватив пальцами золотую чашу, возводит очи к невидимому Отцу. От чаши бьет таинственный свет, а маленький Янек, не сводя глаз с Лика Его, повторяет полушепотом слова, которые каждое воскресенье слышит в костеле и уже знает на память: benedixit deditque discipulis suis, dicens: Accipite, et bibite ex eo omnes. Hic est enim Calix Sanguinis mei, novi et aeterni testamenti: mysterium fidei [35]. Это ужасно, но, когда ксендз доходит до слов et bibite ex eo omnes, Янеку волей-неволей представляется одна и та же картина: старый дуб возле столярной мастерской, под которым летом, весной и осенью после работы отец с дружками пьют из одной бутылки, передаваемой от уст к устам. Когда кто-нибудь из них, основательно набравшись, пропускает свою очередь, остальные кричат: «Из нее все пьют, из нее все пьют, только Иуда не пьет!» — и тогда провинившийся, преодолев минутную слабость, снова присоединяется к сообществу, которое сегодня, вспоминая ту сцену, профессор Выбранский без колебаний назвал бы по-мужски сплоченным и сакраментальным.
Ему хочется направить мысли куда-нибудь в другую сторону, но запах, исходящий от кадила, которым он, маленький министрант [36], размахивал во время мессы в Поганче, действует как порабощающий память наркотик, а он именно этот запах ощущает сейчас, в климатизированном «саабе», застряв в пробке в двух километрах от центра. Неожиданно Ян Выбранский вообразил себя министрантом в костеле ксендза Монсиньоре — в красивом кружевном стихаре с вышитой золотой нитью внизу монограммой этого священнослужителя, он размахивает тяжелым кадилом, и облако серого дыма на мгновенье заслоняет все: национальные флаги, мундиры полицейских, солдат, сотрудников городских служб, пожарных, харцеров [37], ветеранов последней войны, а также фигуры советников, судей, прокуроров, председателей профсоюзных ячеек, членов кружков пенсионеров и обществ друзей Радио Мария [38]и, наконец, простых прихожан, до краев заполнивших прекрасный средневековый храм. Дымное облако рассеивается, и внезапно у бокового нефа, там, где ксендз Монсиньоре однажды вывесил плакат с надписью «Евреи убили Иисуса Христа и нас тоже преследуют» (под которым неизменно лежали свежие цветы), министрант Янек видит самого себя, уже взрослого, пробирающегося через густую толпу к исповедальне. Пани Зофья — на своем постоянном месте в третьем ряду, рядом с бывшим секретарем воеводского партийного комитета, ныне пенсионером — встревожена: через минуту закончится префация [39], начнется пресуществление [40], а мужа нет. Он всегда исповедовался во время проповеди, быстро и кратко, получал отпущение грехов и тотчас подсаживался к ней — что же случилось сейчас? Может быть, неспроста он сегодня, в воскресенье, вернулся домой буквально за час до того, как пора было отправляться в костел? Пани Зофья незаметно косится вбок — неудобно же оглядываться, тем более перед камерами местного телевидения, и поэтому не может увидеть того, что видит маленький Янек от алтаря: он сам, взрослый Ян Выбранский, отходит от исповедальни несолоно хлебавши. Он просто-напросто опоздал, викарий, уже с епитрахилью на шее, направляется к алтарю, чтобы принять участие в богослужении. Слегка растерянный профессор Выбранский секунду колеблется, не покинуть ли ему костел, но все-таки идет вперед и — когда уже звенят колокольчики, когда все уже преклонили колена, ожидая после пресуществления хлеба пресуществления вина, которое начнется, когда ксендз Монсиньоре возьмет в руки золотую чашу и повторит слова Иисуса: примите и пейте из нее все, — наконец добирается до скамьи и опускается на колени рядом с пани Зофьей. Министрант Янек смотрит на него во все глаза: вот он сам, взрослый, приближается к себе, мальчику, открывает рот и, приняв Тело Христово, произносит: аминь. Под ладонью ксендза Монсиньоре, который берет следующую облатку, и над патеной [41], которую поддерживает министрант Янек, их взгляды — его, прежнего, и его, сегодняшнего, — на мгновенье встречаются.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
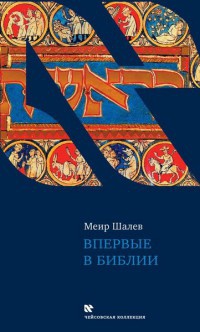

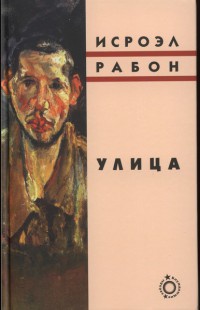

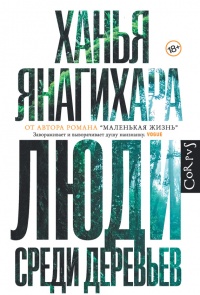
Комментарии