Моя другая жизнь - Пол Теру Страница 17
Моя другая жизнь - Пол Теру читать онлайн бесплатно
Меня навестил отец де Восс, появился, заложив руки за спину, в дверном проеме.
— Вам повезло, что вы решили провести каникулы в больнице.
Но для меня Мойо — не только больница. Мойо — это все вместе: миссия, церковь, деревня, амбулатория. Сборище беглецов и изгоев: прокаженные, сифилитики, укушенные змеями, самые чудовищные уроды. Обезображенные, никому не нужные люди, изгнанные из родных мест. Это не больница, это приют для отчаявшихся. И люди здесь не больные, а проклятые.
Моя же болезнь была чем-то иным: рвущая, зазубренная боль терзала голову, сверлила, распиливала, а потом впивалась в тело. Я не походил на тех, других. Мне не найти исцеления, я знал это твердо. Это лихорадка; с ней живешь, мучаешься и спустя неделю либо выздоравливаешь, либо постепенно угасаешь, но даже если тебе суждено выздороветь, ты не будешь прежним, потому что лихорадка убивает что-то внутри. Так говорят о лихорадке африканцы, и теперь я верил, что они правы.
— Возможно, малярия, — задумчиво говорил отец де Восс, но моя болезнь не очень его занимала. Вошел брат Пит с подносом, и отец де Восс отошел в сторону.
— Выпейте, пока не остыло, а потом я дам вам mankhwala, — сказал брат Пит по-английски.
Серьезность ситуации его вдохновила: такого количества английских слов я прежде от него не слышал. Он поднес мне чашку горячего чая и скормил шесть таблеток хлорхинина и одну парацетамола, чтобы сбить температуру, а в полдень пообещал дать еще шесть.
— А может, черноводная лихорадка. Или даже холера. Или любая другая лихорадка, без названия, — послышался опять голос отца де Восса. — Но сначала будем лечить вас от малярии, потому что от нее у нас есть mankhwala.
Мокрый от пота, я ловил ртом воздух, согласно кивал, пытался улыбнуться и благодарил их обоих хриплым, надтреснутым голосом: какое счастье, что я пережил ночь и теперь у моей лихорадки есть свидетели.
— По-моему, Полу уже лучше, — сказал отец де Восс.
Действительно, после страшной ночи само внимание этих добрых людей возродило мои надежды и притупило боль. Я знал: меня выхаживают; суета брата Пита убаюкивала. Он же аккуратно сменил простыни, и, лежа на сухом, я почувствовал себя лучше.
Отец де Восс улыбался мне так печально и добро, словно благословлял. Глаза его прощали и отпускали грехи. Весь он был обращен не к моей болезни, не к слабости моего тела, а к душе, телом же занимался брат Пит.
Весь день брат Пит и повар Симон носили мне чай и пичкали хиной. Ближе к вечеру температура поднялась снова, и Симон прикладывал к моей голове сложенные вчетверо мокрые полотенца. Ночью меня по-прежнему мучил жар, но было уже не так страшно. Я молился, чтобы дело пошло на поправку, и с первыми лучами солнца у меня снова появилась надежда. Я пережил и эту ночь. Потом снова был горячий чай, горькая хина и сваренный Симоном жидкий куриный бульон. Однако на исходе этого и последующих дней температура снова лезла вверх, я метался в жару, все тело, каждую его клетку, ломило, а глаза от боли вылезали из орбит. И накатывал опять страх: вот наступит темнота, и я умру.
А барабаны все били, их буханье поднималось по склону холма снизу, из деревни прокаженных. И я словно вдыхал резкий, пронзительный запах пыли, поднятой ногами танцоров. Я представлял, как они топают, будто давят жирных белых червей, которых сами называют mphutsis. Едва начинали бить барабаны и сгущалась темнота, мой жар усиливался и я обретал некое ночное зрение — явь пополам с галлюцинацией — и видел обнаженные блестящие тела в бликах костра, а тени их прыгали по полу и стенам моей комнаты.
Сквозь прищуренные от жара веки я видел, как бросается в самую гущу танцующих Амина и, работая локтями и бедрами, проталкивается вперед; вся она во власти барабанов, по лицу струится пот, на маленьких грудях красные отблески огня; она закатила глаза так, что видно одни белки. А потом вдруг с нее сползает накидка, которую тут же затаптывает толпа. Но Амина в трансе, она не замечает, что осталась голой, только извивается все гибче, и тело ее светится все ярче, и вся она — точно язык жаркого пламени, а бабка смотрит незрячими глазами, слушает барабанный бой и, верно, гадает, куда делась внучка.
Пташка тоже слышит барабаны в своей монастырской келье. Ей тоже видятся черные потные тела, искры — веером из костра, вопящие женщины. Деревня, дремавшая в пыли день напролет, к ночи оживала. И все, что происходило здесь днем, уже не имело значения. Я пытался представить, что чувствует Пташка, когда слышит барабаны: возбуждение или отвращение? Ну, разумеется, возбуждение, но именно это ей и неприятно, а значит, она этого никогда не признает и притворится, что ей противно.
Благодаря лихорадке я видел все как наяву; не только барабаны и танцующую толпу, но отдельно девушку Амину, и Пташку, и монахинь, и священников, которые истекают потом в своих комнатах и молятся, молятся… Болезнь подкармливала мое воображение, и я узнавал этих людей ближе и лучше.
В какой-то момент я начал думать, что это и есть уготованный мне урок. Я должен был заболеть, метаться в жару, лежать на спине, неспособный шевельнуть пересохшим языком, и все это, чтобы понять, что любые усилия здесь — тщетны.
Симон неутомимо менял на моем лбу мокрые полотенца, носил суп, чай, лекарства. Но ни его, ни священников моя болезнь всерьез не обеспокоила. Они исполняли свой долг, проявляли внимание, однако прокаженные наделили их своим фатализмом сполна. Да и могли я рассчитывать на сочувствие к своей болезни в мире, где властвует проказа? Что бы они ни говорили, я был для них умирающим.
— Вчера опять били в барабаны, — сказал я Симону. Сказал очевидное, просто хотел послушать собственный голос.
— Каждый вечер бьют.
— И танцуют?
— Да.
Я был уверен, что все происходит именно так, как мне привиделось: толпа прокаженных, голые тела, и Амина страстно извивается перед слепой бабкой.
— Это что, вроде праздника урожая?
— У нас нет урожая, отец, — напомнил он. — Мы работаем на огороде круглый год.
— Тогда почему chamba? — Я использовал самое абстрактное слово «танцы».
— Это не chamba, это zinyao.
Такого слова я не знал и попросил объяснить. Но Симон покачал головой, словно не имел права раскрыть секрет.
— Может, сами увидите, когда поправитесь.
Я начал садиться на постели, лучше спал, да и голова болела не так сильно. Лихорадка то уходила, то возвращалась. Каждый день я принимал хину — горстями — и шесть-восемь таблеток аспирина. Я чувствовал себя лучше: не крепче пока, но меня все реже трепал жар. А потом понемножку я начал есть: съедал с супом кусочек-другой рыхлого, крошащегося хлеба, который выпекал Симон.
Но еда меня не вылечила и даже не прибавила сил. От еды начался понос. И я не мог уже довольствоваться ночным горшком, приходилось ковылять в отхожее место. Прежде я посещал сортир возле кухни, но оказалось, что в заросшей части сада, совсем рядом с моей комнатой, есть еще один предназначенный для подобных нужд сарай: с замшелой кирпичной кладкой, обросший сорняками, такой же старый, как сам дом. Было в нем что-то жуткое, но идти — ближе.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
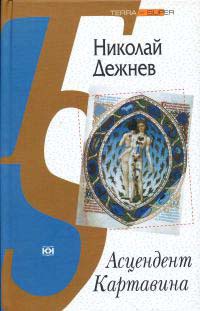
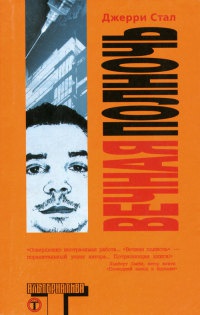
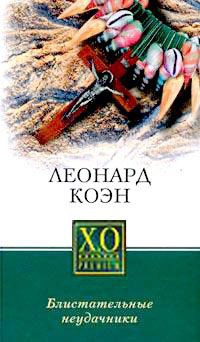


Комментарии