Женщины Лазаря - Марина Степнова Страница 17
Женщины Лазаря - Марина Степнова читать онлайн бесплатно
Ознакомительный фрагмент
Тарелка еще раз жалко пискнула под пальцами Линдта и распалась на острые неравновеликие части. Отличный знак, Господи. Я и не сомневался, что Тебе и дела нет до того, что Ты не существуешь. И не надо про Фрейда, оставь себе смешные половые теории дрочливого еврея, отчаянного курильщика, обитателя буржуазнейшей квартирки в центре неторопливой респектабельной Вены. Успокойся, моя мать тут решительно ни при чем, она была всего-навсего плодовитая дура, бессловесный автомат, штампующий никому не нужных жидовских младенцев, очень может быть, что она и была святая, но мой папаша уж точно не дотянул до плотника. Хоть в этом мне повезло. В спальне Чалдоновых было тихо — видно, Маруся заснула, прикорнула рядом со своим великим мужем. Если бы он не был моим учителем и ее мужем, я бы его убил. Нет, не так. Я бы убил его в любом случае, если бы это хоть что-то могло изменить.
Линдт обвел глазами бастион вымытой посуды. Из помойного ведра жарко воняло подкисающими объедками. Приготовленный Марусей гусь был выше всяких похвал. В Москве двадцать девятого года было сытно, лениво, и только на рассвете, который медленным бледным киселем заливал окна, чувствовалась какая-то неясная, будущая тревога. Наступали новые времена — очередные и снова страшные. Линдт вышел в переднюю, снял с вешалки пиджак и тихо затворил за собой дверь. В конце пустой улицы поднималось огромное равнодушное солнце. Впереди была длинная жизнь. Очень длинная.
И Лазарь Линдт честно пошел по направлению к последней странице.
Он был родом из какого-то сонного ничтожного местечка — не то на юге Херсонской губернии, не то где-то еще, — поначалу никто не потрудился уточнить ни у Линдта, ни на карте, а когда пришло время кропотливых и неумолимых анкет, то Линдт уже был нужен, ой как нужен. Так что пришлось довольствоваться только труднопроизносимым топонимом Малая Сейдеменуха — да самой беглой проверкой. Вы говорите, ваши все погибли в Гражданскую, Лазарь Иосифович? Расстреляны белогвардейцами? Телеграмма от товарищей из Малой Сейдеменухи лаконично подтверждала, что семейство Линдтов действительно было расстреляно в таком-то году. Правда, в том же году несчастное местечко громили и красные, и белые, и зеленые, и бог весть еще какие звероватые батьки, совсем уже не классифицируемые по партийной или политической линии, но тем не менее отлично умеющие жечь, вешать, насиловать и убивать. Уточнять, кто именно стер с лица земли родню Линдта, на всякий случай не стали — мог выйти серьезный и никому не нужный конфуз. Сам же Линдт ни о детстве, ни об отрочестве не рассказывал никогда и никому. Не то чтобы скрывал, просто отшучивался, уходил, ловко плеснув хвостом, на какую-то совсем уже не постижимую собеседником глубину, как будто там, в прошлом, остался какой-то незаживший нарыв — такой ужасный и набухший, что даже мысленно дотронуться невозможно.
Чалдонов из любопытства как-то покопался в дореволюционных статистических данных — совершенно для Линдта неутешительных — и выяснил, что в 1897 году, за три года до рождения Линдта, в местечке Малая Сейдеменуха проживало 520 человек, из них 96,5 % — евреи. Большая часть влачила земледельческое существование — на семью выходило в среднем одиннадцать с небольшим десятин земли, полторы коровы и тридцать восемь кур. Чтоб не помереть с натуги, многие баловались ремеслишком, особенно густо было стекольщиков. Впрочем, стекольное дело вообще отчего-то пользовалось у евреев особой популярностью. В местечке кроме перечисленных излишеств имелся молитвенный дом (до собственной синагоги сейдеменуховцы доросли только в начале двадцатого века) хедер и частная начальная школа Абрама-Трайтеля Лейбовича Шайкина — полоумного еврейского святого, усердно сеявшего в Малой Сейдеменухе разумное, доброе и вечное — уж чего-чего, а вечного у евреев всегда было хоть отбавляй.
Шайкин, происходивший из нищеблуднейшей семьи, к тридцати годам не просто выучился грамоте, но и выколотил у Министерства просвещения России (тупого и косного, как любое министерство) диплом народного учителя — уже это было достойно подвига, но Шайкину мало было святости, он настаивал на мученичестве. Терновый мой венец! Став, наконец, учителем, Абрам Лейбович, вместо того чтобы на этом угомониться, открыл в доме собственного отца школу — внимание! частную и светскую! — и в школе этой ежегодно в три смены училось по сорок-пятьдесят сопливых и глазастых крестьянских детишек — чудесных маленьких жиденят. Причем учил их Шайкин (между прочим, папаша семерых собственных вечно голодных отпрысков) арифметике и географии, а также прочим премудростям, крайне необходимым в этой заскорузлой и каменистой жопе мира. Разумеется, вся Малая Сейдеменуха как один считала Шайкина законченным идиотом, и, разумеется, несмотря на все его титанические усилия, грамотных и малограмотных в местечке было больше 70 процентов. Мировую гармонию не так-то легко нарушить, даже если ты не только еврей, но еще и святой. Особенно, если ты еврей. Да еще и святой.
— Лесик, вы тоже учились у Шайкина?
— Я вообще не учился, Мария Никитична, — очень серьезно отвечал Линдт. — Некогда было.
— Но родители-то у вас были? Почему вы никогда не расскажете про маму или про отца? — продолжала допытываться любопытная Маруся, не обращая внимания на умоляющие гримасы Чалдонова, деликатность которого корчилась от любого вмешательства в чужую и от того особенно драгоценную жизнь.
— Разумеется, были. Хотя я бы предпочел, чтобы меня нашли в капусте — желательно, вашего приготовления. — Линдт улыбался и придвигал к себе тарелку с припухшими загорелыми пирожками так, что было совершенно ясно, что продолжения беседы не будет. В капустную начинку Маруся непременно добавляла вареное вкрутую яйцо, черный молотый перец и грибы. — Это ведь белые, Мария Никитична? Замечательно вкусно.
После того памятного предрассветного признания Линдт несколько месяцев разговаривал с Марусей с валкой, уклончивой осторожностью соучастника или канатоходца — будто и впрямь что-то зависело от каждого слова или жеста, будто Маруся действительно услышала его или поняла. Потом ему наскучила и эта игра, очередной жалкий самообман — ходьба на живых израненных подошвах по вымышленной — словно в насмешку — веревке, натянутой над ярмарочной площадью, забитой зеваками, которым нет до него никакого дела, потому что их и самих попросту не существует. В качестве головоломки, упражняющей мозг, это было неплохо, но для жизни годилось мало. И Линдт надолго смирился с существующим положением вещей, как смиряешься рано или поздно с гравитацией, которая не позволяет летать, несмотря на то, что трудно вообразить себе что-то более естественное для человеческого тела, чем полет.
Все пошло по-прежнему — может быть, даже лучше. В конце концов, у Линдта была еще и работа, которую он ценил. Не служба, ежедневно выдиравшая из жизни кусок с девяти до семи, так что на радости свободного существования оставалось всего несколько часов, из которых большая часть вынужденно приходилась на сон и еду, а именно работа — к тому же отлично организованная со всех точек зрения. И справедливости ради надо было сказать, что работой этой — как, впрочем, и практически всем остальным — Линдт был обязан Чалдонову.
Чалдонов, правду сказать, недолго мучился, благоустраивая МГУ, — уже в конце восемнадцатого года, по горло сытый молодой большевистской бюрократией, он пошел на поклон к Жуковскому, да-да, к тому самому, к своему университетскому учителю, покровителю, практически к отцу.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
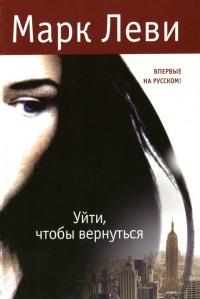


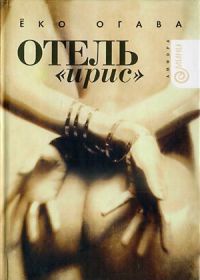

Комментарии