Спящие от печали - Вера Галактионова Страница 16
Спящие от печали - Вера Галактионова читать онлайн бесплатно
Ознакомительный фрагмент
– Да! Да! – с готовностью откликнулся Бухмин, не в силах оторвать взгляда от блеска круглой серьги в ухе парня. – Премного благодарен. За хлопоты. Вы ведь потратили на меня столько сил. А я вам никто, чужой человек… Не особенно удачно всё получилось, конечно, тем не менее – благодарен, особенно за то, что полки вы мне повесили. Растроган, да.
– То-то.
– Кольцо бы ещё убрать, если можно, – сконфуженно указывал поэт на окно, боясь ухода парня и незнакомой тишины, которая вот-вот подступит к горлу в одиночестве, как ржавая болотная вода. – Блестит оно очень.
– Да ты что, отец?! Погляди, на какой шуруп оно посажено! Его пальцами не вывернешь… Всё, я пошёл. А кольцо… Ничего, на что-нибудь сгодится. Оно есть не просит, правильно?
Блеснув круглой металлической серьгою, парень хлопнул в ладоши и пропал навсегда.
* * *
Бухмин долго стоял среди узлов и чемоданов, разглядывая паутину в углах каморки и вдыхая нежилой запах помещенья с низким потолком, с давно небелёными бугристыми стенами. Они внушали ему, однако, чувство защищённости. Но в блеске висящего под потолком кольца чудилась ему невнятная, таинственная насмешка.
Он с трудом отводил взгляд, который своевольно возвращался всё к тому же стальному блеску, многозначительному и непонятному. От этого блеска хотелось избавиться немедленно – закрасить чем-то кольцо или обмотать его тряпкой…
Надо ли говорить, что уместилась в барачной комнате жалкая часть библиотеки Бухмина – всего четыре навесных полки, а ещё кухонный стол, старый диван из прихожей и стул. Но куда подевалось всё остальное, старый поэт не знал. И как петлю свил из старой простыни, разорвав её на части, не приметил, и как через блестящее кольцо протянул, запамятовал тоже. Так и висела она белым полукругом, не мешая особенно Бухмину, потому что сразу же болтающийся конец её он отодвинул в сторону, в самый угол окна, накинув там на какой-то кривой гвоздок, торчащий из рамы.
После этого поэту стало гораздо спокойней; кольцо поблёскивало слабее. И он вдруг осознал, что петля, нечаянно заготовленная впрок, для будущего, ещё большего, осложнения жизни, уже есть, и что получилась она вполне сносной. А впопыхах, при безысходной крайней немощи, ему потом такую, пожалуй, не свить…
* * *
Перестав думать про петлю и про кольцо, Бухмин какое-то время ещё приходил к знакомой покинутой двери, обитой толстым вишнёвым дерматином с тусклою позолотой гвоздей. Он жал на кнопку своего звонка, прислушивался и жал снова, желая получить что-нибудь необходимое – из своей одежды, из книг, из милых сердцу вещиц. Иногда ему срочно требовались зубочистки, стоящие в китайском низком бокальчике, на кухонном столе, и седьмой том Лескова, потому что Бухмину никак не удавалось вспомнить доподлинно что-то очень важное «О слабости чувств и о напряжённости оных», а именно – про трогательное покаяние…
В другой раз он спохватывался, что в шкафу остались все байковые пижамы и широкий пояс из собачьей шерсти. А то вдруг хотелось ему непременно послушать, пускай – напоследок, пластинку «Прощание славянки»!.. Потом он вспоминал, что в бараке нет семейного кожаного альбома с фотографиями.
– Лиза… Лиза… – топтался поэт на лестничной площадке. – Что я скажу Лизе?.. Она там спросит…
Звонил Бухмин и в другие двери, но никого, видно, не заставал дома – стеклянные глазки из тьмы смотрели ему в лоб равнодушно, как циклопы. Только знакомая соседка с головою, обмотанной лохматым тёмным полотенцем, показалась на одно лишь мгновенье, словно горец в папахе, и уставилась на Бухмина диким оком, красным от шампуня, в упор. Она тут же исчезла, громыхнув блеснувшей цепочкой и клацнув замком. Но Бухмин всё равно обрадовался тому. Полагая, что соседка его не узнала, он звонил ещё и ещё. И поглядывал вверх. Потолок тоже смотрел на него – тусклым бельмом плоского одинокого плафона. И всё вокруг не узнавало его, по какой-то недостаточности зрения.
Потом Бухмин поплёлся в свою редакцию, чтобы сказать новым сотрудникам: «Я жил под красной звездой. Я служил ей верно даже до смерти. Мы не изменили ей ни в чём, но она покинула нас. И всё же, когда умру, я должен лежать под нею, железной, потому что звезда у нас – была. Она светила нам ярко, хоть и очень кроваво… Пусть под серыми деревянными крестами лежат не дождавшиеся счастья. А у нас оно было… Позвоните в военкомат, когда умру: я уйду с железной звездой. Запомните это и налейте мне сто грамм фронтовых, собратья, как живому пока». Однако, постояв без толку на пустынном перекрёстке, Бухмин понял, что перейти дорогу не сможет. В тот день дул сильный ветер, от которого кружилась голова и путались мысли.
* * *
Вскоре поэт изнемог окончательно. И в этой комнате-склепе он залёг, словно старый барсук, ожидающий смерти: она сама должна была дать о себе знать каким-нибудь образом – ну вот, мол, и пора. А вместо смерти сюда повадилось приходить его давнее прошлое, и Бухмин то смеялся на своём диване, то плакал, бормоча собственные старые стихи. Иногда он бодро проговаривал вновь сочинённые – про седую беспомощную, но высокую оттого любовь. А то вдруг запульсировало у него в висках: «Бог не выдал. Но съела свинья наши судьбы, деревни, державу. Наши песни, и доблесть, и славу Бог не выдал, но съела – свинья…»
Только записывать стихи уже не было сил. Они улетали куда-то с большою скоростью. И Бухмин понял, что он лишь наполняет пространство своими строчками, которые вернутся уже к совсем другим поэтам, и те будут думать, что придумали их сами, а ни какой не Бухмин. Тогда сочинительство угомонилось в его душе и даже зарубцевалось, как заросшая рана.
Рубец, однако, ощущался; всё-то Бухмина озадачивали, тревожили, настораживали сочетания звуков, хотя уже безрезультатно. Даже в шорохе, в посвисте степного ветра музыки было мало; он шумел теперь совсем по-иному – налетал дурными порывами, опадал невпопад и часто грохотал ржавой жестью, срываемой с прохудившихся крыш. Наверно, это было звучание хаоса, потому что гармония в мире искажалась и рушилась… Искажалась, рушилась, грохотала… Куда подевалась русская сила, недоумевал Бухмин. Держаться миру было теперь не на чем. И нечего стало воспевать сочинителям, кроме всеобщего позора.
* * *
Давно уже не весёлый и не красивый, поэт перестал смотреться в навесное зеркало – из стекла глядела на него после умывания только тёмная и старая чья-то рожа с жёсткими волосами, торчащими из ноздрей, из жёлтых огромных ушей. А таким бывший красавец Бухмин видеть себя не желал. За хлебом он выходил в сумерках, брёл кривой захолустной дорогой, где не было встречных людей, в магазине же прятал лицо в воротник.
Несколько раз возле отдельного его крылечка в две доски появлялись люди из военкомата. Бухмин насторожённо разглядывал их из-за пожелтевшей газеты, прилепленной к оконной раме хлебным мякишем, и дверь не открывал, чтобы не помереть от позора грязной и бедной своей, теперешней, жизни. Но расслабленная улыбка застывала на лице его, когда мимо окна пробегала молоденькая бледнолицая соседка с тревожными пасмурными глазами. В комнатных тапках на босу ногу, она стояла иногда на ветру, ожидая кого-то, кто должен был подойти со стороны холодной степи… И в том, как она прижимает к горлу белый платок, было что-то родное, давнее, знакомое.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.




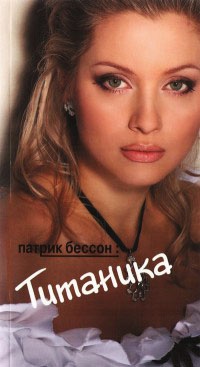
Комментарии