Соучастник - Дердь Конрад Страница 16
Соучастник - Дердь Конрад читать онлайн бесплатно
Ознакомительный фрагмент
«Считается не то, что мне годится, а — на что я гожусь. Свобода? Маниакальная идея параноиков. Параноик думает, что их двое: он — и весь остальной мир. А я не хочу убеждать мир в своей правоте: я в нем свое место ищу. Я люблю играть — и мне будет неприятно, если меня вышвырнут из команды. Чуть-чуть независимости, конечно, мне тоже не помешает, лишь бы это не обошлось слишком дорого. Я из тех, кто себе на уме и любит, чтобы начальство плясало под его дудку. Но для успеха необходимо, чтобы начальство не сомневалось в моей лояльности. Ради этого я и на жертвы готов. Вон Авраам: чтобы уверить Бога в своей преданности, он родного сына готов был отдать. Что он думал о Боге, когда, держа сына за руку, вел его к жертвеннику? Это — только ему одному известно».
«Я и при графах не стал бы революционером, и при коммунистах не стал. Преданный партии специалист, я к ним приноравливаюсь, потому что хочу их пережить. Как там говорил партсекретарь про епископа? „Он, говорит, тоже человек: знает, что боженька далеко, а госбезопасность — вот она, рядом“. Я это тоже знаю. Если потребуется, буду врать, но с умом, ровно столько, сколько действительно требуется. Коли тут все — функционеры, от генсека до путевого сторожа, ладно, будем хорошими функционерами. Постараюсь поймать дух, который как бы царит в государстве, на слове: постараюсь создать такой коллектив, где и врачу, и больному приятно работать».
«Я решения принимаю часто. Иногда — субъективно, но против этого только один рецепт: уйти в отставку. И пускай ни персонал, ни больные меня не любят: лишь бы делали, что я скажу. Если я начну с каждым спорить, клиника потонет в грязи, а больные передушат друг друга. Мы тут вовсе не равноправные; с какой стати? Директор без авторитета — все равно что сторожевой пес без зубов: ему и лаять не захочется, если в дом заберется вор. О больном я знаю не намного больше, чем о своих часах: встали, встряхнешь, пошли. Дома у них — сплошь неудачи, сплошь рецидивы; если есть крыша над головой — уже хорошо. Три сотни взрослых людей, которые потерпели в жизни крах, которые не способны стоять на ногах без поддержки. А здесь они, плохо ли, хорошо ли, живут, заботу о них я беру на себя, и ничего, если даже они здесь застрянут надолго. Я им помогаю избавиться от всяких там страхов, пускай и электрошоком: нечего скулить, забившись в угол. Я их полечу, они поспят, потом будут слоняться, как осенние мухи».
«В школе я твердо усвоил: мы — не та нация, которая творит историю. Революции наши были разгромлены, в войнах мы терпели одно поражение за другим. Там, где надо выстоять, мы всегда на лопатках; а где надо лишь выжить, туг мы — на коне. Мои крепостные предки, когда случался набег, прятались в зарослях, в камышах, сидели в воде, дышали через трубку, которую держали в зубах. Лихие люди на конях уходили, от деревни оставались одни головни, и тут они вылезали со своими детишками. Служили мы туркам, немцам, теперь служим русским; две империи уже развалились, развалится, бог даст, и третья. Но пока они тут, будь добр, улыбайся им; я даже любить их готов, если потребуется. Тебе ведь тоже известно, в той горе танков — под завязку набито. Когда мы Прагу оккупировали, они три дня ползли; когда в Праге порядок установился, три дня шли обратно. Каждую весну, в годовщину полной оккупации страны, я выступаю перед больными с торжественной речью, воодушевляю их и себя, мол, как здорово, что нас освободили. Подобострастие денег не стоит, маньяки аплодируют, даже каталептики встают, когда заиграет „Интернационал“. А высокие гости расхваливают концерт самодеятельности и печеную курицу».
«Это ведь ты привел их сюда с автоматом, ты грозил старику бургомистру, что поставишь его к стенке, если он не выставит угощение офицерам комендатуры в надраенном, натопленном помещении казино. Это ведь ты рассказывал небылицы о том, какой там у них рай. А я, солдат, который только и делал, что бегал, добрался до этого парка, заскочил в дом, сжег форму, потом вышел к воротам с палинкой и колбасой. Мы им фасолевый суп варили в казане, гимнастерки стирали; они даже оставили нам одну корову, и сестренку мою не тронули».
«Поповские бредни, имперские бредни, фашистские бредни; интеллигенцию здесь всегда держали для того только, чтобы она врала. Вот и в солдатах: ефрейтор скомандует: „Запевай!“ — мы дерем глотки; скажет: „Отставить!“ — мы немедленно замолкаем. Отдадим царю — царево, за это ему надоест террор и он не станет нас в землю втаптывать. Тебя-то самого разве не русские полковники допрашивали в политической полиции? Двадцать пять лет назад ты чуть на виселицу не попал, а сегодня даже убийц не вешают сразу. Режим — нудный, но не зверствует, а это уже кое-что. Притираемся к отливочной форме колонизаторов, а уж там, внутри, начинаем понемножку походить сами на себя. Можем потихоньку обзаводиться хозяйством — лишь бы в глаза не бросалось; режим стоит, пустил корни, теперь уже и своя традиция есть, которая ему помогает».
«Ты говоришь, с политикой завязал, потому что врать больше не хочешь; отказываешься от деятельности, риску теперь подвергать тебе некого, кроме себя самого. Свобода — без поступков; жалкую же ты выбрал альтернативу: дать себя засадить или не дать. Заперся в убогое интеллигентское гетто; тридцать оппозиционеров, за которыми присматривают тридцать агентов, и вы еще хвастаетесь, что за вами следят. Я вот — принимаю их в своем кабинете, толкую им о психиатрии, и они, с гудящей головой, пошатываясь, уходят. Один из них мне по секрету признался, что мне в машину жучка пристроили. Пускай, рано или поздно это им надоест, я ведь государственный служащий, если очень станут меня донимать, я найду союзников».
«Это ведь не моя была прихоть, чтобы ты тут у меня находился. Хитростью, симуляцией ты сам пробрался сюда, сам захотел стать сумасшедшим, созерцателем, второстепенной фигурой. И тебе это удалось; ты никому не способен помочь, от тебя никто ничего не ждет. А мог бы я хоть что-нибудь сделать, будь у меня твоя независимость? Мне нужно дружить с шишками, добывать для клиники деньги. Чему ты научишь молодых, забравшись сюда, в этот заповедник бессилия? Вон идет автобус, на нем — работяги, которые после смены возвращаются с завода в деревню; им не крах ведь нужен, а кирпича немного, чтобы домишко свой починить. Попробуй-ка объяснить соседу, каменщику, почему ты сюда попал. Это ему — все равно, как если бы чокнутый граф толковал ему из своего запущенного сада про свои беды. Может, он тебе и не скажет ничего, а про себя подумает: все-таки хорошо, что такого держат в дурдоме, нормальный человек не вылезет из дому, когда град колотит по крыше, только тот, у кого мозги набекрень, ищет на свою задницу приключений. Я твоих друзей знаю: нетерпимые противники компромиссов предают анафеме более терпимых противников компромиссов. Я лучше честно скажу: я — признаю компромиссы, как признает их народ».
«В общем-то я тебя не жалею: придет какая-нибудь оттепель, и ты станешь тем, кем был раньше. Полиция оставит тебя в покое, книги твои издадут, будешь ездить на всякие конференции, молодежь в переполненных залах будет слушать маститого профессора. Ты ведь даже падать умеешь так, что в конце концов оказываешься выше, чем был. Ты и здесь — как фон-барон; мы тебе разрешили ночевать у себя, в своем домике, нашли и повод для этого: вроде ты мне литературу по специальности с английского переводишь. Говорят, машинка у тебя стучит много, а переводы что-то поступают редко; я не спрашиваю, что ты там печатаешь. Я с тобой никогда грубо не обращался, уважал в тебе не только историка, но и сына старого своего хозяина. Питание ты получаешь, белье тебе стирают, по деревне ты разгуливаешь свободно, не уезжаешь только потому, что не хочешь просить разрешения, заманиваешь к себе докторшу, привратник тебя приветствует, будто ты тут главный».
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

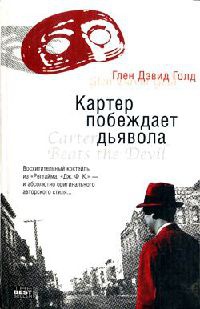

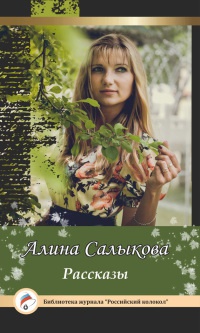

Комментарии