Мост через Лету - Юрий Гальперин Страница 16
Мост через Лету - Юрий Гальперин читать онлайн бесплатно
Летом отправлялись на гастроли. Точнее, весной: из школы меня забирали в первых числах июня, иногда в мае. Учебный год я начинал в октябре.
Чемоданы, гостиницы, чужие квартиры… В Сочи по скрипучему паркету каменной виллы папа расхаживал в легендарных ботинках (тех самых), тяжеленными утюгами висели они на ногах.
— Выброси их, ведь жара!.. Что ты нам снял?
— Клевая дача, с удобствами: ванна, телефон.
— Зачем мне в Сочи телефон?
Хозяйка надулась: не понравилась гостье квартира с комфортом. Отец тащил чемоданы. Я — мячик и сачок. У мамы тоже была поклажа. Не сгибаясь под тяжестью, она гордо шествовала к машине.
Место, облюбованное мамой для жилья, оказалось на окраине города, в стороне от суеты курорта. Ветхий домик примостился на склоне горы, посреди виноградников. Двери выходили на галерею, заросшую хмелем, — окна в тени. Кухня, легкая пристроечка, дерево пропиталось ароматами. Запивая молодым вином, мы ели гуся, приготовленного по-грузински.
Ночи были душные и непроглядные. Шуршали листвою ежики, собирали опавшие яблоки в саду.
Лохматый Абрек, пастушья овчарка, выл, когда осенью мы уезжали. Плакала тетя Олико. Напоследок угощала ранней хурмой и поздним виноградом. Море недовольно шумело, облизывая гальку. По пустынному пляжу мы бежали, чтобы бросить монетки в волну. Но туда, где были счастливы, где однажды было хорошо, мы не возвращались.
В тумане пряталась гора Ахун. Тягостным серпантином стекали по склонам дороги, узкие и неровные, норовистые, как скакуны: старались сбросить «москвич» под откос, в пропасть. Воздух посвистывал в брезентовом тенте. Мама укутывала меня пледом. Едва удерживая дребезжавший экипаж на спуске, отец оборачивался, чтобы от ее сигаретки прикурить…
Мне запомнились ночи в Евпатории. Мы встречали его после концерта возле служебного подъезда курзала, не спеша брели через парк и в тишине выходили к морю. На песке сидели долго перед лунной дорожкой. И молчали. Запомнились вечера, когда молчали. Плескалась, набегая, волна. И немо мигали огни рыбаков в бухте.
Отец сидел, вытянув ноги: прислонился спиной к борт у спасательной шлюпки, бережно положил саксофон рядом, на песок. Была зелена я луна. Светилось черное масло воды. Однажды он достал из футляра инструмент. Но не стал играть.
Он сидел угрюмо на разбитом топчане и молчал, обняв серебряную трубу. Мы с мамой молчали. Шевелились у горизонта прожекторы. Ночь была глуха. Захлебывалась в бухте луна.
Отец сидел очень близко и не чувствовал меня. Я прикоснулся к волосатой руке. Он вздрогнул и отодвинулся. В тот момент он был как чужой. И я вообразил, что он, наверное, сейчас играет, внутренне играет (так пишут в книжках). Я стал вслушиваться, до звона, до боли в ушах. Но ничего не услышал.
Стало грустно. В горле все пересохло. До того невыносимо вдруг стало, что я давился, чтобы не заплакать, и чтобы никто не увидел.
Я икал и давился. Светила луна. Море целовало песок. Фосфором мерцали черные волны. Родители сидели на старом топчане — спина к спине. Им было не до меня. И я хрипел совсем тихо, чтобы их не вспугнуть…
В Евпатории нас гоняли с пляжа пограничники — по ночам запрещалось купаться. Но старик купался.
В Гагре он вздумал подработать (в трудный момент) в качестве пляжного фотографа, вооружился камерой, верной своей «экзактой», и на третий день угодил в финотдел. Ему шили дело. Но следователем оказался армянин. Отец вскипел: «Своих от чужих не отличаешь!» Обедать они пошли в ресторан. Вечером мы принимали у себя местных армян, новых земляков.
Ему сходило многое. Везением это не объяснить.
Ни в одной из общественных организаций он не состоял, в том числе и в профсоюзе, но взносы платил исправно, считал — товарищам надо помогать. К членам партии, из числа своих знакомых, относился с презрительным пониманием, а партбилет называл хлебной карточкой. В ресторанах и в электричках без боязни, не понижая голоса (но и не кричал), отец поносил порядки. В Киеве однажды, требуя билеты на поезд для оркестра, он добрался до канцелярии министра путей сообщения республики и, когда чиновник в вышитой украинской рубашке притворился, что «не разумиит по-москальски», покрыл и бюрократа и местную самостийность на чем свет стоит. Тот возмутился. Но отец притиснул его: «Ага, разумиишь, сукин ты сын!» И билеты получил.
Летом в переполненном троллейбусе на Крещатике потный битюг грубо толкнул маму. Отец снял с невежи шляпу и выкинул в окно. А когда публика неодобрительно взволновалась и обесшляпленный гражданин взъерепенился, на остановке он вытолкал нахала на улицу. Троллейбус тронулся. И все вокруг успокоились. А незнакомый, но вежливый здоровяк (оказалось, цирковой атлет) пожал отцу руку, и скоро они отправились куда-то праздновать знакомство.
В Рижском заливе на катере мы попали в шторм. Пассажиров мутило. Они лежали вповалку на палубе под потоками захлестывающей посудину воды. Волны смывали блевотину. Из команды держался один лишь шкипер, он же и рулевой. «Присылают салаг! — ругал он растерянный экипаж. — Нанимают сачков, а от них проку…» Отец стоял рядом с ним, помогал крутить тугой штурвал. Мама и незнакомая девушка в брезентовой куртке возились с обессилевшими. Я ползком, по уходившей из-под живота палубе, подобрался к мостику и встал рядом с отцом, широко, по-матросски расставив босые ноги (сандалии смыло), и одной рукой вцепился в карман его застегнутой на все пуговицы куртки, другой в стальной леер. Иногда он оборачивался и бросал сквозь зубы: «Держись, артист!». А когда удалось укрыться за лесистым мысом скалистого островка возле Саарема, он дал мне пинка: «Марш к дизелю, сушиться!..» Мама с ужасом смотрела на мостик, — она до сих пор удивляется, как нас не смыло тогда.
Отец равнодушно отнесся к последнему приключению и, в отличие от мамы, редко эту историю вспоминал. По-видимому, он начал уставать и от блажи, и от благости. Приелось ему. Я все чаще заставал его за пианино, дома или в пустом зале кафе, где его оркестр выступал по вечерам. Он сидел и что-то одиноко и весело наигрывал. Странно было смотреть, как он один веселится. В обычной обстановке мы уже давно не видели его таким веселым. И, наконец, он сказал матери:
— Знаешь, я тут, похоже, кое-что интересное надыбал: насчет сольной каденции и пластмассового саксофона. Не забыла, я однажды рассказывал, давно уже? — и гордо посмотрел. — Хочешь послушать?
— Опять джаз? — сказала она и, мне показалось, слова невольно вырвались у нее с испугом. — Эта твоя работа дорого нам обойдется. Ты совсем не думаешь о семье.
— Да, работа, — оборвал ее отец. — Я устал от суеты. Все без толку, вся эта жизнь: зарабатываешь — тратишь… Перейду в маленький кабак или в кино… А с деньгами придумаем.
— Только начали жить, как люди, — сказала она.
— Как люди? — усмехнулся он. — Я не знаю, как это…
— По-человечески.
— Время уходит, пойми. Я упустил кучу времени. Режим проклятый: сначала лагерь, потом война, запреты идиотские. А теперь во всем мире играют такое… Деньги? Так нам их никогда не хватало.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.


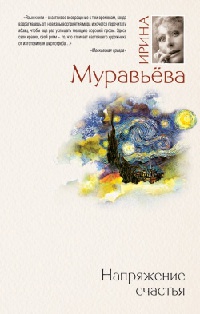
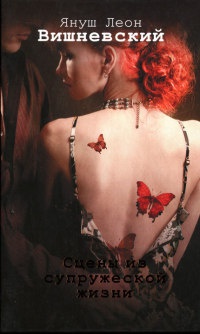

Комментарии