Жизнь это театр - Людмила Петрушевская Страница 16
Жизнь это театр - Людмила Петрушевская читать онлайн бесплатно
Однако же опыт показывает, что такой внезапно распространяющийся слух о чьей-то сверхдоброте и самоотдаче быстро опровергается большим скандалом в тот же адрес, и данная семья здесь не исключение.
Катерина, потерпев еще лето (Толя отъезжал с группой в Берлин) и собрав вещички, вдруг покидает семейное гнездо, квартиру мужа в центре Москвы, и исчезает на окраину, где жила раньше и где у нее маленькая однокомнатная квартира, и теперь уже оба крошки, оба ангела оказываются в одинаково полусиротском виде, однако еще перед отъездом, еще в Толиной квартире, они начали буянить, орать неземными голосами, драться. Двое мальчиков, два бойца.
Кончился «Тося пинц», заволокло слезами ясные глазные хрустали, больше не выступают из тьмы крошечные босые ножки, наивные ходатаи за конфетой.
И тут уже крик и драки, плач, оба активные нормальные парни трех и четырех с гаком лет, дети одинокой матери, дети печальной, тоскующей матери. Теперь, говорят, она ходит сама по гостям, дети то ли с подругой сидят, то ли одни бесятся, она же ходит в гости, не отказывается, танцует и беседует по углам, такие доходят вести. Но кто ее осудит?
Да, должна была терпеть, тихо сидеть над колыбелями, раз уж полюбила и берегла мужа от всего, и колыбели должны были тихо качаться под вечную сказку про «Тосю-пинца» и сиять хрусталями из тьмы, пока вокруг идет активная жизнь, гульба, поездки, фестивали, съемки.
Но всё. Эти трое тихих убрались в глушь как милостыню просить, гордо канули как в воду, никому ничем не обязанные, не хочешь не надо, ушли в песок туда, в однокомнатную квартиренку на окраине, переселились из просторных комнат в тесноту и бедность, в одиночество.
Над колыбелями просто, бедно и шумно. Сидит ни вдова ни замужняя, надомный редактор детективов за копейки, переписывает сверху донизу эти идиотские тексты, а рядом ее вопрошают прозрачные глаза — где та жизнь, где мальчик-принц и его верный режиссер-постановщик, переводчик одной, постоянно звучащей, немой песни насчет конфетки, где это? Вообще — где счастье?
Толя-отец, нежный молодой человек, ездит на окраину, гуляет там с деточками-бандитиками, погуляет и возвращается к себе домой, к новой жене, а дети к себе, и мать накормит их, вымоет, уложит, расскажет сказочку, и из тьмы светят ей прозрачные, невинные глаза, совершенно не повинные ни в чем.
Удивительно воздействие группового существования вдали от реальной, повседневной жизни, от дома и родственников. Вся тяжесть обыденности как-то исчезает вкупе с проблемой где взять денег: ты устроен, ты здесь на срок — на неделю, на время отпуска и т. д.
Тут и подстерегает человека иллюзия, что так и должно быть, от завтрака к обеду, от ужина к ночи, и одна забота — выглядеть все лучше и лучше, и уже находится кто-нибудь кто оценит, восхитится, а отсюда недалеко и до восхищения тем кто восхитился.
Мы наблюдали — мы, живущие напротив их большого дома отдыха, — эту женщину, которая выглядела отталкивающе вульгарной и именно что бросалась в глаза. Она много хохотала, отправляясь, скажем, на автобусе в компании мужчин своего рабочего дома отдыха куда-то на базар за фруктами или к местным за банкой их вина — как мы все это делали. Она во главе своей стаи, и вот вам вид: коротковато острижена, какие-то парикмахерские пружинки, дешевая завивка, мертвые волосы после свежесделанной химии, далее: выщипанные и выкрашенные сине-черной краской бровки, рот намазанный, разумеется, но тоже как-то дешево. Вся красота, как говорится, из аптеки рупь двадцать баночка. Короткая юбка, босоножки самого дешевого и пошлого вида, но с покушеньями на моду, это слова прошлого века, довольно-таки точные: с поползновеньями быть как все, не хуже других, не отстать ни в чем. Она покушалась, бедная бабенка, на счастье, хотела вкусить, оторвать себе клочок настоящего, не доступного ей счастья и той жизни, которую они все видели в телесериалах.
Итак, море, солнце, а у нее модные босоножки, крутая завивка, бровки, черные очки и тут же (внимание!) толпа восхищенных самцов, с ними она едет на базар.
Мужская сторона, как это бывает на собачьих свадьбах, разношерстная, четыре особи, один высокий, тоже во всем праздничном, в сером костюме по такой жаре, то есть надел самое лучшее, далее один дядечка из племени пузатых в простой майке, один молодой ни к селу ни к городу с длинными волосами и некто совсем маленький (непременно маленький позади всех, штаны пузырем), этот последний явно с надеждой выпить по такому случаю.
Она, эта всеобщая Кармен, хохочет, но не так грубо, как можно предположить, не заливисто с подвизгом, на манер пьяной веселой бабенки, которая зовет и зовет всех кого ни попадя, всю округу, ибо смех есть их призывный вой. Кармен же хохочет коротко и приглушенно, не слишком явно, не двадцать же человек собирать, и так многовато уже. А высокий мужчина в сером костюме идет с ней голова в голову, первым в этой своре, серьезный голодный самец при параде, с самыми жесткими намерениями по поводу остальной стаи.
Серьезность вообще более значима и весит много больше нежели раскованность и свобода, легкость и веселье. Серьезность правит бал и тут, как везде; и к серому так и приклеивается кличка Первый дядечка.
Кармен и Первый дядечка затем всюду мелькают вместе, остальная собачья свадьба пропала, провалилась сквозь землю. Первый дядечка наконец расстался с серым костюмом и ходит в серьезных серых шортах, в кепке и в майке, купленных здесь, — видимо, это она ему выбрала, они уже семейники (так называют в лагерных зонах однополые пары, ведущие общее хозяйство).
Семейники Кармен и Первый дядечка ходят уже спокойно, она больше не хохочет, он носит ее сумочку, они как на работу идут в столовую, серьезно на пляж, как по делу едут в автобусе на рынок, это всегда тесный автобус, они тесно стоят, прижавшись друг к другу в давке, она снизу (маленькая даже на каблуках) взглядывает на него, но достигает глазами только его носа (это видно), в глаза ему не смотрит. Первый признак, что она влюблена, внимание. Он вообще глядит поверх голов, высокий дядечка, оберегающий свою маленькую самку в толпе, и это так становится явно, что они двое любят друг друга и отделены ото всех; и толпа их тоже как бы отбраковывает, не одобряет, отшатывается — даже в общей свалке они какие-то обреченные, не свои.
Да, это с ними произошло, самое большое несчастье. Печаль светится в их глазах, чуть ли не слезы стоят.
Причем за отчетное время она, Кармен, как-то поутихнув, приобрела мягкость и некий золотой ореол (то ли юг повлиял, загар). Волосенки ее выцвели, распрямились слегка, легли белой волной, раз. Второе, что кожа потемнела, глаза посветлели и просияли. Стройненькая, ладная, не хуже никакой кинозвезды, наша Кармен вся светилась любовью, жалостью, как будто растерялась, потерялась, — а Первый дядечка как раз совсем не изменился, хотя тоже загорел.
Но загар на рабочей кляче, на мужике, который вечно все тянет на себе, весь мир, — этот загар не меняет ничего. Зимой работяга выцветает, летом чернеет, всё.
Однако и на нем уже была эта печать страдания, прощания, тоски, которая сопровождает любовь.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.


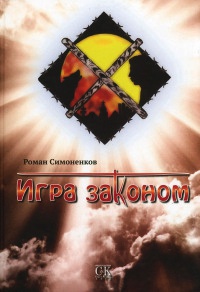

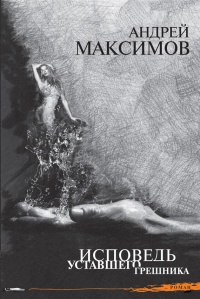
Комментарии