Вверх по Ориноко - Матиас Энар Страница 15
Вверх по Ориноко - Матиас Энар читать онлайн бесплатно
Для Юрия люди делились на три разновидности: слепцы, которые ничего не понимают, ничего не читают, катятся вслепую по накатанному, получив пинок в детстве, не понимая, на какую дорогу попали и куда она приведет; зрячие, которые активно пользуются своим мыслительным аппаратом, читают, вникают, думают, но бессмысленная рутина окружающего постепенно перетирает их и приканчивает; и те, что, принося себя в жертву буржуазному миру, к которому мы волей-неволей принадлежим, принудили себя носить маску, дорожа фальшивыми условностями как хрупкой, но необходимой защитой от безумия и безнадежности мира слепцов, — Юрий считал, что этим безрадостным приспособленчеством занимаюсь я. Себя он причислял к зрячим и знающим, но все, что видел, — разверстые на операционном столе тела, желудочки сердца, клапаны, вскрытые его рукой, пульсирующие артерии; все, что слышал, — стоны раковых больных, плач страдающих детей, оставленных, одиноких, блуждающих без надежды в преддверии рая; все, что читал в распахнутых глазах, в расширенных зрачках людей, напуганных тем, к чему трудно приготовить безутешных, убеждало его только в одном, он не мог, наблюдая страдания тела и духа, не прийти к очевидной истине: природа — бессмысленное колесо, в котором до изнеможения крутится ничего не понимающая, несчастная белка; скрип колеса, помещенного в клетку, и не давал Юрию спать по ночам; зверушки бегут в никуда, он их лечит, и они, пригнув в потемках голову, опять возвращаются к своим порокам, глупости, малодушию, в скудный мирок, чтобы недолгое время спустя снова вернуться к Юрию, все они для него были на одно лицо: тени, призраки, что бесконечной чередой исчезают в пустоте, бессмысленно и однообразно.
А раз так, то лучше вообще забыть о душе, так показалось Юрию; спасение в том, чтобы лечить тело и забыть о самом пациенте, говорить с ним так, будто его и на свете нет: ну, как мы сегодня себя чувствуем? Нам уже лучше? Юрий произносил вопросы скороговоркой и не слушал ответов. Он не верил в разум существ, чьи тела вскрывал на столе, от них ему нужно было только молчание, и его обеспечивала анестезия; оставшись в одиночестве, Юрий сосредоточенно колдовал над сердцами и терпеть не мог объяснять, что сделал или что собирается делать, а пациенты смотрели на него как на суровое таинственное божество, наделенное символом сверхъестественной власти в виде стетоскопа, они жаловались: не простой человек этот доктор, с ним не поговоришь. Юрий считал общение, разговоры с больными уделом санитаров — словом, младшего персонала, он не хотел замутнять, да что там — принижать свое совершенное искусство, безупречную технику и мастерство интересом к человеческим качествам пациента, малозначащим особенностям его психологии.
Подобное отношение не чуждо никому из нас, оно вообще характерно для больниц, для врачей, но Юрий довел его до крайней точки, до логического завершения. Надо сказать, он во всем — сознательно или бессознательно, не знаю, — тянулся к совершенству; и стремление во что бы то ни стало отстраниться от людей, которых он лечил, отгородиться от них своим искусством, отделить плоть от души, церковь от кюре, сделать невозможное возможным, забыть человека в человеке доводило его до отчаяния, заставляя каждую минуту чувствовать себя глубоко несчастным. Проблема тела и души в том или ином виде всегда существует для врача (особенно для хирурга), но позиция Юрия была не решением, а скорее отказом решать проблему, уничтожив одну из ее составляющих; Юрий стал воплощением всех наших больничных неурядиц, он довел до абсурда логику существования самого этого учреждения и вместе с ним медленно двигался к распаду, ощущая неизбывную горечь. Жоана неотступно была с ним рядом, и я постоянно задавал себе вопрос: почему именно она, добрая, внимательная, мягкая, деликатная, покорилась своей полной противоположности, человеку, одержимому желанием вытравить человечность не только в себе, но и в других? Мир создан из лжи, трусости, глупости и глумления, твердил Юрий, а медицина — воплощенный парадокс: с одной стороны, сама реальность, с другой — издевательство и насмешка, и тем-то она меня и привлекает.
Он копался в людских телах, стремясь к сокровенному знанию, шлифовал свое искусство, но только сам себя загонял в ловушку: чем больше он работал, тем несчастнее становился, а чем был несчастнее, тем больше работал.
Он мечтал поступить в какую-нибудь благотворительную организацию, но вовсе не из человеколюбия, а ради анонимности; воображал, что на службе жестокой необходимости станет вторым Ларреем, хирургом Наполеона, который в палатке походного госпиталя ампутировал руку за двенадцать секунд, а ногу за три минуты. Юрий хотел забыть о себе, хотел, чтобы работа вытеснила все остальное, и надеялся, что пациенты, люди чужие и незнакомые, жертвы неведомых ему трагедий, избавят его наконец от гнета реальности, и останется только чистая хирургия, идеальное мастерство. Он верил, что, спасая пострадавших от бедствий (войн, землетрясений и прочих катаклизмов), освободится от навязанных условностей — общения не только с начальством и коллегами, но и с пациентами: незнание языка и культуры превратит больных в объект лечения, а его работу — в операционный конвейер, как в «Историческом и хирургическом описании экспедиции Восточной армии» Ларрея, одной из настольных книг Юрия. Вдали от удобств и больничного оборудования, затерянный в пустыне или среди городских руин, принявший на себя хирургический постриг, он надеялся наконец почувствовать себя счастливым, исцелиться от тоски городской рутины.
Надеялся излечиться с помощью бегства, погрузиться в разверстые язвы, исчезнуть в них, соприкоснуться с чудесами и обрести истину.
Ода была убеждена, что за странным поведением Юрия скрывается какая-то более глубокая драма, возможно детская травма, вызванная отношениями с матерью; как всякий практикующий психоаналитик, она и мысли не допускала, что объяснение лежит вне сферы их излюбленных теорий: в болезни Юрия нет ничего сверхъестественного, она напрямую связана — а как же иначе? — с родителями, семьей, прошлым; Юрий от души посмеялся бы над наивной прямолинейностью подобного психологизма.
Однако Ода не так уж и ошибалась насчет отношений Юрия с родней, потому что семья у него была, мягко скажем, очень непростая. Мать разыгрывала аристократку, но при этом пила запоем, отец — видный адвокат и бизнесмен, уже в годах, имея двух взрослых детей, влюбился в балерину-истеричку, как отзывался о ней Юрий, и поселился, как водится, в Биаррице, на роскошной вилле, утопающей в гортензиях и тамарисках. Эту виллу Юрий ненавидел с детства и собирался, если она достанется ему по наследству, пожертвовать под дом отдыха для пролетариев-забулдыг. В качестве мести. Несмотря на авторитет врачебной профессии, Юрий считался в семье неудачником, своего рода «нищим поэтом», за него беспокоились. И хотя он не любил откровенничать, многое можно было понять из его язвительных описаний семейных обедов и родни с тупыми разговорами. «Если бы ум продавался на рынке, — говорил Юрий, — боюсь, моей родне не хватило бы капиталов, чтобы восполнить дефицит».
Я невольно сравнивал наши семьи (может быть, на этой почве и родилась наша скоропалительная дружба?) и находил немало общего, особенно между отцами, мой был врач, уважаемый человек из богатой помещичьей семьи, а прикончила его голытьба — он умер от инфаркта в Каракасе, во время мятежа, когда взбунтовавшиеся парии грабили столицу. Ему было уже за восемьдесят, он вышел февральским утром подышать воздухом, и сердце его не вынесло вида ворвавшихся в город варварских орд голоштанников и нищебродов. Он всю жизнь подавал им милостыню, а теперь это коммунистическое отродье, спустившись со своих cerros [9], с криками «ура!» громило роскошные магазины и супермаркеты… Он умер несколько дней спустя, не в силах смириться с мыслью, что погиб родной ему мир буржуазного процветания с хорошо выдрессированными бедняками; его доконал крах привычного уклада — патрицианского, провинциального, призрачного; он сумел пережить раннюю кончину моей матери, но мой отъезд, как мне говорили, был для него настоящим ударом, не потому, что меня отец так уж нежно любил, а потому, что остался без наследника и не мог никому передать обязанности хозяина дома, землевладельца, врача и политика; а я покинул Америку еще и потому, что хотел избежать неизбежного для себя удела: видного положения в обществе, владения землей и политиканства в кругу олигархов, которые каждые двадцать лет делают вид, что смертельно напуганы воцарением очередного диктатора из «чужаков» и отчаянно вопят: втируша, выскочка, популист, солдафон, большевик! — однако не мытьем так катаньем вновь прибирают власть к рукам, чтобы истощать и губить страну слепой экономической политикой, обслуживающей исключительно их частные интересы, а потом, спустя недолгое время, снова провоцируют приход диктатора, а потом… и так без конца; безысходное хождение по замкнутому кругу вызывало у меня отвращение, когда я был еще подростком: уже тогда я решил, что здесь не останусь. Встреча с Одой ускорила мой отъезд, в любом случае неизбежный. А Юрий, как ни рвался, все не уезжал, ему казалось, что вот-вот его отношения с семьей наладятся; разум взрослого человека так и не справился с детской потребностью в родителях, время от времени он навещал их, но потом, вернувшись в Париж, кипел от ненависти; ненависть и впрямь держала его на расстоянии от близких, но, как только она выкипала, он опять спешил к ним, раб иллюзии сыновнего долга, которую с таким успехом внедряют в нас и которая на самом деле не что иное, как тюрьма для души и сердца.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

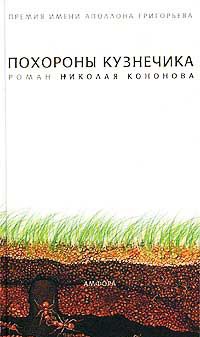
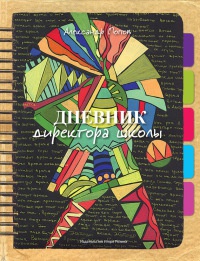


Комментарии