Забытое время - Шэрон Гаскин Страница 14
Забытое время - Шэрон Гаскин читать онлайн бесплатно
Ознакомительный фрагмент
Может, он по-прежнему не признает очевидного и поэтому не может дочитать до конца. Или афазия препятствует его попыткам постичь те или иные аспекты ее развития. Подобный поворот событий был бы потешен, если б не так бесил.
Отправившись купаться на пляже в Сен-Жан-де-Люз, Равель, блестящий пловец, внезапно понял, что не в состоянии «координировать свои движения»…
Сен-Жан-де-Люз. Андерсон однажды был на этом пляже — много лет назад, в медовый месяц. Они с Шейлой прикатили туда по французскому побережью. Андерсон взял отпуск на две недели и пообещал ни словом не обмолвиться ни о лаборатории, ни о крысах. Лишившись любимых тем для беседы, купался в свободе и замешательстве. Они с Шейлой ели и говорили о еде; плавали и говорили о воде и свете.
Остановились в большом белом отеле на берегу. «Гранд-отель Забыл Как Называется». По воде скакали рыбацкие лодки. Свет на воде, свет в воздухе рикошетил от Шейлиных белых плеч. Ничего нет похожего на этот свет — все художники знают.
Андерсон снова сосредоточился на словах.
…Равель, блестящий пловец, внезапно понял, что не в состоянии «координировать свои движения»…
Каково ему было — что он пережил в этот миг, постигнув, что не контролирует собственное тело? Решил, что смерть пришла? Забился, стал тонуть?
Равель страдал афазией Вернике средней тяжести… Понимание языка сохраняется гораздо лучше, нежели способности к вербальному и письменному выражению… Музыкальный язык страдает еще сильнее… наблюдается замечательная несообразность между потерей музыкального выражения (письменного либо инструментального) и музыкальным мышлением, которое страдает сравнительно мало.
Замечательная несообразность, подумал Андерсон. Пусть на моем надгробии так и напишут. Он заставил себя перечитать:
«замечательная несообразность между потерей музыкального выражения (письменного либо инструментального) и музыкальным мышлением, которое страдает сравнительно мало».
То есть — слова наконец внедрились в сознание, будто Андерсон распознавал то, что сам же и написал, — то есть Равель по-прежнему мог создавать оркестровую музыку, слышал ее в голове, но не мог исторгнуть наружу. Не мог писать ноты. Они были навеки заперты внутри, звучали для одного-единственного слушателя.
Невзирая на афазию, Равель с легкостью распознавал мелодии, особенно собственного сочинения, и с точностью указывал на ошибки в нотах или ритме. Узнавание длительности и высоты нот прекрасно сохранилось… Заболевание практически полностью препятствовало аналитической расшифровке — называнию нот, диктовке, чтению с листа, — особенно затрудненной из-за неспособности припомнить, как называются ноты, — так обыкновенный афазик «забывает» названия простых предметов…
Шум столовой, рокот голосов, звон кассы, грохот подносов — все это замедлилось, и в этом гуле Андерсон различил неумолчное стаккато — будущее, что движется к нему на всех парах. Быть может, Равель сочинил новый шедевр — еще одно «Болеро», только лучше. Быть может, Равель выстроил его в уме, такт за тактом, но не смог записать ни единой ноты, не смог разметить ни единой мелодии. Дни напролет они играли у него в голове по кругу, сцеплялись, разъединялись с ясностью, которую постигал он один, а больше никто не знал. Дни напролет мелодиями дышала его кофейная чашка, мелодии лились из крана в ванну, горячие и холодные, переплетенные и разделенные: запертые, неостановимые.
Как тут не сойти с ума?
Не лучше ли было погибнуть в океане?
Если б Равель не закричал — если б его не заметили, — он бы стал тонуть. Бросил бы в конце концов барахтаться, его естественный порыв к сопротивлению убаюкали бы волны, великолепие солнца просочилось бы сквозь воду. И тогда он бы расслабил мускулы, и тело утянуло бы его на дно — вместе со всеми ненаписанными концертами… и все это исчезло бы в мгновение ока.
Совсем ведь не трудно, подумал Андерсон. Перестать цепляться за жизнь. Капитулировать.
На миг облегчение затопило его, охладило бурлящий рассудок. Я не обязан дочитывать статью, подумал он. Я вообще ничего не обязан.
Можно просто бросить все.
Но внутри билось желание продолжать бой — как у боксера, что уже шатается, но голова кружится так, что выхода с ринга не найти. Андерсон разгладил страницы, сосредоточился и снова принялся читать.
Газовый фонарь в мартовской мокряди мигал маяком далекой нормальности, а Джейни то ли волокла, то ли заманивала Ноа к дому. По дороге он где-то посеял варежку и ледяной ладошкой цеплялся за руку Джейни, мертвым грузом тянул ее к земле.
Она выхватила из ящика груду влажной скучной почты (опять счета и повторные извещения) и поспешно захлопнула дверь, чтобы не намело.
После натиска метро и белого шума ветра внутри было тепло и пугающе тихо. Оба застыли, как выброшенные на мель; Ноа огорошен, подавлен. Джейни закрыла деревянные ставни, заперла и себя, и Ноа в желтом полумраке торшера, усадила сына на диван смотреть DVD («Гляди, милый, „Немо“! Твой любимый мультик!») и сложила ему на колени альбом с бейсбольными карточками. Ребенок в последнее время все чаще такой — ликование притушено, будто Ноа до костей пропитала суровость врачебного кабинета. Он сидел и смотрел свои мультики, ни слова не говоря; не хотел играть, не кидался мячиком.
Никак не получалось согреться; у Джейни стучали зубы. Она возлагала на этого врача такие надежды. Уверена была, что уж теперь-то все изменится.
Она поставила чайник, заварила чай себе и ирисочный какао для Ноа, навалив в кружку столько марш-меллоу, что жидкости не видно. Поглядела на конфетки, что весело скакали в пенистой коричневой жиже, словно белые детские зубки, и под окном из кухни в гостиную опустилась на колени, спряталась, чтоб Ноа не увидел, как она плачет. Соберись, Джейни. Все равно что запихивать вопящего кота в мешок, но ей удалось. Подавила рыдания, что остались ворочаться в животе, и встала. Задний двор за окном совсем замело, и снегопад не утихал.
Когда Джейни принесла какао, Ноа тихонько сидел и смотрел кино, распластав ладошки по альбому и затылком привалившись к спинке дивана. Последние четыре месяца были эмоционально невыносимы и катастрофичны в смысле работы, но нельзя отрицать: Джейни привыкла, что эта блондинистая голова вечно мелькает на краю зрения, привыкла к утешительной мысли о том, что Ноа рядом. Три няни не прижились, с двумя детскими садами не сложилось, и после очередного фиаско (Ноа выбежал из дверей «Ребят Натали» и помчался по Флэтбуш-авеню в считаных футах от потока машин) Джейни махнула рукой и разрешила им с последней няней играть у нее на работе. Сидели они довольно тихо (слишком тихо!), строили что-то из «лего», помощница Джейни хмурилась и чертила, а сама Джейни пыталась хоть на пару шагов продвинуть к завершению те проекты, что у нее еще оставались.
Она подсела к Ноа на диван, ладонями обнимая кружку с чаем, пытаясь согреться. Ее уже не смущало даже амбре — эта приторная затхлость, которая теперь не покидала Ноа ни на минуту.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

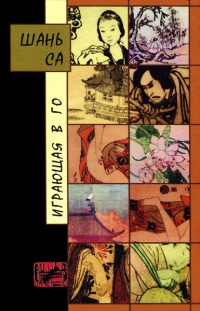
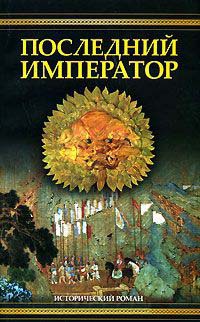
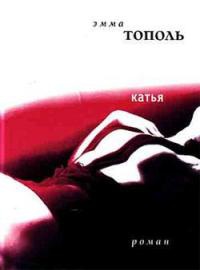

Комментарии