Левый полусладкий - Александр Ткаченко Страница 12
Левый полусладкий - Александр Ткаченко читать онлайн бесплатно
В день, когда над козырьком ялтинской гряды гор уже гремела канонада немецкой артиллерии, из всех винзаводов было выпущено на волю вино, выдержанное годами, а иногда десятками лет. Были выбиты кляпы, разбиты бутылки, подняты прессы давилен. И потекли по улицам вниз, к морю, реки красного и белого вина, чтобы не досталось никому. Мускаты, хересы, портвейны… Бурые реки вина, смешавшись с осенним дождем, двинулись к морю по нескольким руслам мощенных гранитом улиц. Городские пьяницы припадали ртами к пьянящим потокам, купались в них, хмелея, шли вослед бывшим толпам винограда, смеялись и плакали, словно прощались с прошлой жизнью, — прощай, вино, прощай, сухое и крепленое, прощай, шампанское, вина не будет больше никогда. И вот наконец в морской воде, в местах входа рек вина стали образовываться большие багровые пятна солено-сладкого вина, расползаясь все больше и больше, местами соединяясь. Несколько поддавох плыли вослед волн уходящего лета сорок первого года. Один начал тонуть и его подцепили багром с отходящего торпедного катера в сторону новороссийского берега, еще не занятого оккупантами, и выбросили на большой ялтинский мол. А корабли уходили и уходили, переполненные ранеными и беженцами, кренясь и хватая бортами пьяную соленую воду сквозь винные пузыри, и вослед им смотрели те, кто оставался в припортовом городе с полной неизвестностью жизни в будущем рядом с неизвестными им людьми-пришельцами.
В начале марта, пятого, по-моему, числа, умер Сталин. Отец молчал, сестра шмыгала носом и плакала, мать ушла рано на работу. Я пошел в школу. На первом же уроке нашего второго класса учительница спросила: «У кого родители работают на швейной фабрике? Нам нужны черные ленты из крепа, чтобы окантовать портрет вождя». — «Я могу принести, — сказал я, — у меня мама работает швеей». — «Идите с Гудковым вместе». И мы вырвались на улицу. Было тепло, шел снег, и за ночь он загрунтовал все улицы и дороги. Было еще скользко, и мы с Гудком начали падать и оттого, что было скользко, и оттого, что хотелось падать. И мы падали и смеялись без причины, подставляли друг другу подножки, медленно продвигаясь к мастерской моей мамы. Мы смеялись, как весенние ласточки, купавшиеся в лучах солнечного снега, совсем не думая о том, что где-то кто-то умер. Природа играла в нас, мы были ее частью. «Вы что же, бесстыжие, смеетесь, горе какое, — стыдили нас дядечки в валенках с калошами. — В какой школе учитесь?!» И мы срывались снова со смехом, и падали, и хохотали беспричинно, и беспричинно падали, хохоча, медленно продвигаясь к мастерской моей матери. Вернувшись с мотками обоечного крепа, мы вскоре попали на траурную линейку школы. Огромный портрет Сталина, где он был изображен маслом в полный рост в маршальском мундире, стоял в большой прихожей начальной школы, где мы всегда строились на зарядку зимой или на построение, вернее, нас там строили. Вождь был еще в военной фуражке и одну руку держал за лацканом шинели. Мы с Гудком чувствовали гордость, что именно наш черный креп окантовывал это грандиозное красно-черное торжество. Учителя плакали, дети тоже, а мы с Гудком еле сдерживались, чтобы не рассмеяться по инерции нашей уличной катавасии. И только мы с ним понимали друг друга. Стояла ошарашивающая тишина, и директор начал что-то говорить страшно торжественное и страшно тяжелое. Портрет стоял, прислонившись к стене, опираясь на только что вымытый школьный пол. Все взоры были обращены к нему. За окном в хрустальной тишине мартовского заморозка начал гудеть и проезжать мимо огромный военный тягач, от которого всегда тряслись стены и окна школы. И вдруг от сотрясения пола и его вымытости портрет стал сползать и сползать, и ровно через секунду он грохнулся под ноги разбежавшимся ученикам, учителям и уборщицам. Над нами раздался голос завуча по кличке Геббельс-заика: «В-с-е п-о с-в-оим кла-ассам, стоять мо-о-олча»… Портрет разбился основательно. Глобус, стоявший сзади него, своей осью пробил холст, пройдя через глаз Сталина. Женщины рыдали еще больше, нас отпустили домой. Когда мы с Гудком выходили, то увидели исподтишка, что все, кто не успел войти в классы, и школьники, и учителя, стояли лицом к стене, чтобы не видеть, как рабочие медленно и деловито устанавливали портрет генералиссимуса с заштопанным глазом на свое место…
После зимы вместе яростным солнцем и ветрами на город нападала пыль. Люди ходили, укутавшись по самые брови в платки и косынки, однако глаза были наполнены молекулами песка, снега, дождя — их заносило пылью и они валились прямо на улицах, устраивались поудобнее и спали до тех пор, пока пора пыли не проходила. Через несколько дней засыпанные пылью, дома, машины и люди встряхивались, ломали скорлупу серых шинелей и выходили, озираясь, снова на свои жизненные маршруты как ни в чем не бывало. В их руках даже молоко не скисало, даже цветы не вяли, потому что пыль в этом городе была особенная — древняя, помнящая еще ступни греков, скифов, татар, крымчаков, караимов. Она давала людям возможность приобщиться к вечному. Пыль пахла чабрецом, ромашками, лавандой. Она была шелковистая, ее можно было пить, разбавленной водой или вином. Особенно полезна и вкусна была пыль с обыкновенных придорожных абрикосов, яблок, персиков, ну и конечно, пыльца цветов. Мальчишки, игравшие в футбол, свои ссадины посыпали пылью и как ни в чем не бывало продолжали бегать. Даже во время официального футбольного матча получивший небольшую рваную рану на бедре центральный нападающий от алюминиевых шипов защитника сошел с зеленого газона под аплодисменты фанатов и, присыпав рану песком из ямы для прыжков в длину, снова пошел в атаку и в пыли сражения забил решающий гол, — во как пылит, как пылит, наш во… запел стадион, вставая… Пыль в моей жизни появилась с тех пор, как мы сестрой играли в Курмане подушками, попросту дрались, и она незаметно подложила шарик от подшипника в наволочку и, сама того не желая, ударив меня подушкой по голове, пробила мне темечко. Кровь хлынула брандспойтом, и мать, зажимая рану, по жаре, по раскаленной пыльной дороге побежала в больницу. Я пытался бежать тоже, но ступни мои сгорели, и так мы добрались до врачей, сидевших по уши в пыли, и через секунду остановили кровь и успокоили меня и мать… Пыль в городе умирала вместе с дождями, которые уносили ее в черное, сладкое, спелое море, но каждый оставлял себе на память до следующего года немного пыли — кто в пудреницах, кто в табакерках, а кто в небольших склянках. Особенно счастливыми и везучими считались те, кто видел по утрам, как стрижи, ласточки или воробьи купались в пропитанных ночным пóтом неба небольших лужицах пыли, и запоминали день, час число…
На углу Садовой и Новосадовой сидели на корточках четверо шпанюков, и было понятно, что они играли в абдрашик. Они то нагибались в кружок, то распрямлялись и что-то недобро обсуждали. Завидев меня с портфелем, бредущего из школы, они почему-то покровительственно рассмеялись: ну что, жиденок, иди к нам, может, сыграешь, или ты только в жоску жаришь, смотри, так скоро хуило отвалится. Жоска в те времена была самой популярной уличной и школьной игрой. Кусочек шкурки козла или овцы утяжелялся двумя-тремя граммами свинца, соединяясь друг с другом тонкой проволочкой. Смысл был в том, что при полете вверх при любой форме вращения, достигая апогея, это сооруженьице начинало падать, стабилизируясь в перпендикулярное падение в отношении горизонта. У самой земли его подбивала нога играющего. Это были либо щечка, либо подъем, но жоску подбивали до тех пор, пока она не падала на землю или пол. Тот, кто упускал жоску, начинал водить или, как говорили тогда, маять то есть он набрасывал жоску на ногу одному из играющих, и если после удара он успевал поймать ее, то он освобождался от наказания и игра начиналась снова. В принципе это была безобидная игра, но если игра шла между шпаной, которая очень сильно играла в жоску, и непрофессионалами, то это приобретало формы вымогательства, издевательства и так далее, потому что тот, кто маял, мог загонять проигравшего в смерть и потребовать выкуп и все что угодно. А вообще начиналось это просто — несколько, от двух до неопределенного количества, играющих начинали набивать жоску правой или левой ногой, щечкой; были игроки, которые набивали до пятисот раз. Проигрывал тот, кто набивал меньше. Каждый удар сопровождался переступом ног, и выглядело это очень ритмично. Учителя, знавшие возможность насилия, в определенный момент игры запрещали ее и разгоняли хулиганов. Кстати, те, кто играл в жоску, считались априори хулиганами. Но все-таки игра в жоску не была чистой игрой на деньги. В ней было больше спорта. Абдрашик была чистой игрой на деньги. И в табели о рангах конечно же была выше жоски, ибо ни на что другое в абдрашик никогда не играли, и поэтому еще больше запрещалась в те времена. По-простому это была игра в кости, потому что играли высушенными фалангами бараньего хвоста. От того, как они упадут после перемешивания их в сведенных ладонях, зависело, сколько очков набирал каждый. «Ну что, бросишь? Давай на школьный рубль». Я поставил. И выиграл. И еще раз выиграл. Шпана деловито подбадривала меня, и вскоре я проиграл все. «Теперь давай на штаны, коль денег нема, жиденок, вот так, теперь рубашку снимай и портфель. Ботиночки сними». А я все бросал и бросал кости и проигрывал. «Ну все, хватит, пусть идет к мамане и принесет нам жратвы. Скажи, что вернем все». И я пошел домой в трусах, обливаясь жуткими слезами вместе с пылью и пухом тополей. Отец был дома. Он все понял. Метнулся наверх шкафа и медленно пошел на угол к шпане. Они знали его и боялись. Увидев, что отец сжимал в кармане пистолет, они разбежались, оставив на земле мою одежду. Отец никогда не ругал меня. Он просто засунул ворота на засов и сказал матери: проводи его в школу и встреть несколько дней после уроков, потом расскажешь, а сейчас за уроки и кончай реветь… За окном пробибикал его трофейный «опель», и отец уехал на работу. У нас во дворе всегда жили всякие домашние — коты, кошки, в глубине сада хрюкал поросенок. Был у нас и Жулик, беспородный пес черного цвета. Он любил всех, но особенно отца. Когда наступал вечер и отец должен бы приехать с работы, все смотрели на Жулика, он тихо дремал в пыли жаркого лета, и все понимали — отец еще не едет. Но вдруг он срывался с места и убегал со двора. Минут через пятнадцать мы слышали утробное урчание «опеля» и видели, что во двор сначала вбегал Жулик, а затем въезжала машина отца. Как он чувствовал, что отец выходил из своего кабинета и собирался домой, никто не знал, но Жулик бежал рядом с машиной и сопровождал отца от самой работы до дома — это, значит, примерно километров за пять.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.



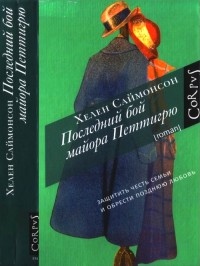
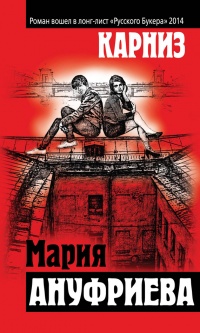
Комментарии