Год любви - Пауль Низон Страница 10
Год любви - Пауль Низон читать онлайн бесплатно
Я мог только снова и снова просить прощения. Дескать, был вне себя, почти обезумел от перевозбуждения и алкоголя. Но теперь — или по этой причине? — мы стали ближе друг другу. Я чувствовал, что в ней исчез какой-то барьер, чувствовал по ее безразличию к «La buena sombra», чувствовал по ее голосу, который временами как бы чуть перехватывало — словно оттого, что рушилась защитная дамба. От боли. От страха.
После закрытия бара мы поехали в гостиницу. А в гостинице не стали прятаться во тьму, как раньше. Обнялись долгим объятием, сначала бережным, потом отчаянным. Прижались друг к другу так, что оба задохнулись и голова пошла кругом. А потом любили друг друга, будто решили не только преодолеть нашу плоть, но истребить, уничтожить самое наше существо. И теперь я тоже улавливал в ее голосе этот новый тон, звучавший эхом давнего детского плача.
Мы условились встретиться назавтра после полудня в кафе «Венесуэла». Антонита пришла, повязав голову косынкой. Раньше я никогда не видел ее в косынке, она выглядела непривычно — по-домашнему, что ли? Уже по тому, как она, словно играя в прятки, ловко уклонялась от попыток заглянуть ей в лицо и как горячо рассмеялась, когда мне все-таки удалось поймать ее взгляд, я заметил какую-то необычность. Она взяла отгул, сказала Антонита, можно идти куда угодно.
Мы пошли в зоосад, а потом, когда вдруг хлынул дождь, — в кино. У нас неожиданно оказалось много времени — и мы поминутно теряли друг друга, как в слишком просторной квартире. Если хотела, Антонита умела быть шаловливой. То она, когда я умолкал, неожиданно меняла темп ходьбы и вышагивала напевая; то напускала на себя отсутствующий вид и словно бы не слышала моих слов. Она расставляла мне множество таких ловушек, и каждый раз все завершалось чудесным бурным примирением. Казалось, она была счастлива. Но в сущности, наверно, только пыталась этими дурачествами отогнать мысль о предстоящей разлуке. Все это время, каким мы располагали, было сплошным ожиданием. Она знала, вечером я уеду. И настояла, что проводит меня на вокзал. Мы приехали туда слишком рано, стояли на перроне и не знали, что сказать. Я пробормотал, что напишу и постараюсь как можно скорее приехать снова. Спросил, можно ли позвонить ей в «La buena sombra». Она только кивала. Потом по вокзалу разнесся трескучий голос диктора. Она сунула руку в сумочку, вытащила булку, разрезанную вдоль и проложенную помидорами. Вдруг мне захочется перекусить. Сняла косынку, протянула мне. Опять голос диктора. Я погладил ее по щеке, обнял. Только когда я уже стоял на ступеньке и поезд тронулся, она заплакала. Слезы хлынули из нее, как будто вовсе не имели к ней отношения. Текли по лицу, как дождь.
В поезде я не ощущал ни беспокойства, ни скуки. Если вообще что-то думал, то в мыслях моих были просто минуты и секунды езды, которые я не хотел ни ускорять, ни растягивать. Я весь, целиком был в пути. Отмечал все перемены освещения за окнами и в купе, пока в вагоне не вспыхнули лампы и стук колес не стал громким, как в туннеле. Затем я вижу себя в одном из переполненных французских вагонов, в этой передвижной ночлежке, кругом полная неразбериха — спящие и бодрствующие, семьи и солдаты, а я стою в коридоре, с бутылкой «Фундадора» в руке. Бутылка переходит из рук в руки, от губ к губам — в компании, где, кроме проводника и двух солдат, есть и девушка, датчанка, видимо ездившая в Испанию на языковые курсы. Воздух густой, тяжелый — от сна, пота, запаха мундиров и платья, а еще от табачного дыма — и полон шорохов дыхания, вскриков тревожного сна и приглушенных разговоров. Лишь на редких остановках в коридоре возникает движение, когда кто-нибудь выходит или, наоборот, садится в поезд. Иной раз в опущенное окно врывается воздух окружающего ландшафта, пьянящий воздух чужой земли. Из темноты серным огнем рвутся к небу трубы освещенной прожекторами фабрики, в обрамленье искристого мерцания спящего ночного города.
И снова я вижу себя в нашей четырехкомнатной квартире — просто стою. Человек, вернувшийся из поездки. Один, наедине с домашним скарбом, с обстановкой, которая удручает его своей трогательной временностью. Стеллаж, подаренный сердобольной дамой, в прошлом супругой миссионера; стеклянный столик за ним — собственное приобретение, как и африканское покрывало на кушетке. Но ни штор, ни ковра нет в этой гостиной, где самый изысканный предмет — полученный по наследству овальный обеденный стол а-ля Луи Филипп — выглядит чересчур претенциозно. Квартира зияет сплошными пробелами и несуразностями, во всяком случае, у нее почти нет истории, мало воспоминаний и ни комфорта, ни патины. Громоздкий письменный стол из отцовского наследства вместе с комодом и корабельным сундуком заткнут в слишком тесное помещение. Супружеская кровать в спальне — собственная конструкция с новыми металлическими ножками, привинченными к старинному остову. Возле кровати овчина на заводском паркете; у окна — столик с зеркалом и всякими туалетными причиндалами. Мужские и женские вещи не имеют своего прочного места, не разделены, но и не перемешаны, просто собраны вместе в четырех общих стенах. В детской яркие краски разноцветной мебели, разбросанные игрушки затушевывают впечатление временности. Кремовые стены — без украшений. Во всей обстановке отражается молодость семьи в первоначальных трудностях, самое большее — в зыбкой стабилизации. Я вижу себя в этой квартире, человек прямо с дороги. Соломенный вдовец в ожидании семьи, с неприятным удивлением принимающий к сведению собственные домашние стены.
Хочешь не хочешь, а надо, наконец, известить газету, надо с этим покончить. Я позвонил и сказал редактору, что вернулся. Там, дескать, возник целый ряд сложностей, но это не телефонный разговор. Когда он сможет меня принять? Мы договорились на завтра. В голосе редактора сквозило разве что деликатное любопытство, но ни малейшего упрека, ни даже досады. Непонятно. Меня что, уже списали со счетов?
Надо сочинить правдоподобное объяснение. Не то чтобы с серьезными намерениями, скорее просто пытаясь отвлечься, я принес из кабинета бумагу и пишущую машинку — заваленного бумагами письменного стола я нарочито избегал, — устроился в гостиной за обеденным столом и заправил в машинку лист бумаги. Чем дольше я глазел на этот лист, тем меньше понимал, что тут вообще можно объяснить. Я не выполнил задание. Занимался собой. Познакомился с Антонитой. В чем же, собственно, причина моей халатности? Я нырнул в пучину, погрузился на дно. И всё.
Сидеть за овальным столом было неудобно, потому что стол и стул не соответствовали друг другу по высоте, по крайней мере чтобы с удобством писать на машинке; и вот, сидя за столом и раздумывая, с чего начать, я почувствовал, как меня охватывает беспредельная печаль. Я испытывал жалость к столу в его вычурном одиночестве, ко всей мебели, взятой вместе и по отдельности. И к жене, которая сейчас, наверно, укладывает в большой чемодан детскую одежду и игрушки, а при этом старается быть с малышами терпеливой, хотя бы не напускаться на них, когда они порываются снова выхватить из чемодана какую-нибудь игрушку, кофточку или что-нибудь еще и из протеста готовы тотчас удариться в крик и даже в слезы. Я представил себе ее руки на потертой фибровой крышке нашего единственного большого чемодана, и это, тоже вызвало жалость. Мне было жаль ее, потому что этими торопливыми движениями она растрачивала себя на чемодан, и жаль чемодан, потому что он, такой потертый, стойко держался, хотя потом его равнодушно захлопнут и отставят в сторону. Все было совершенно между собой не связано, но тем не менее сведено судьбой воедино. В том числе я сам, и стол, и квартира, и семья, и мы с нею и квартира.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
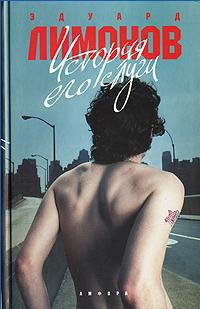




Комментарии