Плагиат - Вячеслав Пьецух Страница 10
Плагиат - Вячеслав Пьецух читать онлайн бесплатно
Ознакомительный фрагмент
Не исключено, что процесс развития стыдливости на некоторых уровнях может идти и в обратном направлении, так, в наше время свободно показывают по телевизору любовные отправления человека, да еще в самые оживленные часы, а в годы моего отрочества мы постоянно стеснялись наблюдать, как вообще кто-то чем-нибудь занимается: как пишут письма, пьют чай и починяют бытовую технику, которая в России ломается как нигде. Мы стеснялись своей недалекости, сгоряча оброненного слова, идиотских поступков, невежества, кучек экскрементов в людных местах, бедняцкой одежды, даже невзрачного вида наших незатейливых городов.
Что до меня, то я больше всего стеснялся своей чрезвычайной похотливости, которая обуяла меня в раннем отрочестве, лет, наверное, в десять. Правда, у меня дело не заходило так далеко, как, например, у моего одноклассника Кольки Малюгина, который мастурбировал прямо во время уроков, сидя за одной партой с толстухой Соней Воронковой, и тем не менее стоило мне невзначай углядеть полоску тела между трусиками и чулком, что иногда случалось, когда мы с девчонками резвились на переменах, как сразу кровь ударяла в голову и находил полуобморок от чувства, которое очень трудно синтезировать, — что-то вроде смеси ярости, гриппозности и тоски. Не знаю, как теперешние, а наши девочки были целомудрены, то есть они допускали кое-какие ручные вольности, но настоящее соитие было исключено, и я готов был удовлетворить свою похоть хоть с гладильной доской, если бы у нее нашелся соответствующий аппарат.
Поэтому мое теперешнее ощущение отрочества — это прежде всего ощущение нечистоты, постоянного присутствия задней мысли, как бы липкой на ощупь, которая охватывает тебя всего и не отпускает, чем бы ты при этом ни занимался, хоть ты решай задачки на встречное движение, хоть сочиняй стихи.
Следовательно, нет в человеческой жизни поры гаже и тяжелей, чем отрочество, даром что оно отнимает у нас ничтожно малый отрезок жизни, лет пять-семь, в зависимости от наследственности, характера и судьбы. У меня, во всяком случае, было так.
В сущности, отрочество — это изгнание из рая в протяженности, однако же с правом на помилование и протекающее как хроническая болезнь. Видимо, человеку необходимо преодолеть этот период времени, пройти через этот остракизм и разные мучительные испытания, через этот опыт свободы, чтобы в конце концов выработался человек положительно и вполне. Отсюда, в частности, вытекает, что свобода — это не право выбора между добром и злом, но возможность принять сторону добра вопреки всем выгодам и удобствам зла. Поелику человек есть не что иное, как чудотворный урод, который не понимает пользы от обмана и грабежа. Все прочее вполне вписывается в природу, то есть в упорядоченную уголовщину как положение, общее и для крокодила, и для наемного убийцы, и для сороки-воровки, и для деятеля демократического крыла.
Понятное дело, такие мысли не приходили мне на ум во времена моего отрочества (мне тогда собственно мысли вообще не приходили на ум), и единственной догадкой той поры, мало-мальски заслуживающей уважения, была догадка о пределе личного бытия. Почему это важно? Потому что если бессмертие — не химия, а продукт сознания, точнее сказать, природная способность незнания смерти, то по-своему бессмертны и, стало быть, бесконечно счастливы дети, собаки и деревенские дурачки; если же смертность — и химия, и продукт сознания, точнее сказать, природная или организованная способность постичь предел личного бытия, то человек бесконечно несчастен и неотступно мыслит, как и полагается высшему существу; то есть как только человек призадумался о смерти, так сразу в нем забрезжил человек положительно и вполне.
Особенно важно, чтобы это случилось вовремя, в отрочестве, когда подросток еще болеет изгнанием из рая и, как всякий тяжело больной, беспокоен, злораден, капризен, ожесточен.
Другое дело, что мыслящий человек всю оставшуюся жизнь проживает как ночь накануне казни и оттого, в сущности, только тем и занимается, что заговаривает, заговаривает, заговаривает смерть; он притворяется, будто сочиняет законы, строит здания, которые после простоят пятьсот лет, пишет книги, путешествует, делает деньги на разнице котировок, а на самом деле это он просто-напросто заговаривает смерть.
Весьма вероятно, что мы напрасно себя изводим, поскольку, может быть, смерть — это всего лишь ответ на вопрос: «Только-то и всего?..»
На веку, по крайней мере, двух последних поколений русского народа юность у людей длится столь несообразно долго, что это становится уже даже неприлично, — до самых седых волос. У него дети школу заканчивают, а он все еще юноша (ему и поступки довлеют 15-летние, и мысли, и система ценностей), в том смысле этого понятия, что юность есть прежде всего глупость особого рода, глупость как норма периода, как скоротечная форма существования и как стиль. То есть юноша, во-первых, кругом дурак и только потом он сама свежесть, романтик, влюбчив, правдоискатель и, как правило, патриот.
Мои же сверстники в юношеском возрасте особенно не задерживались: бывало, поваляют дурака года три-четыре, и они уже вполне взрослые люди, которых просто так не надуешь, которые знают, почем фунт изюма, и свободно отличают добро от зла.
Моя собственная юность началась как раз с правдоискательства и закончилась на первом курсе университета, когда я неожиданно женился и стало не до высоких истин, поскольку жизнь вошла в простую и жесткую колею. А именно: по утрам я ходил на лекции, в обед обедал на скорую руку (обыкновенно я съедал две порции винегрета по семь копеек и несколько ломтей ржаного хлеба, который тогда подавался в столовых бесплатно), потом шел на работу, возвращался домой в двенадцатом часу ночи, заваливался спать и спал, как все спят в юности, — мертвым сном.
Правдоискательство мое состояло в том, что я время от времени подвергал ревизии вечные ценности и своим умом доходил до ответов на следующие кардинальные вопросы: бытие ли определяет сознание, или сознание — бытие? точно ли, что коммунизм — неизбежное будущее человечества, или рынок возьмет свое, и наступит ли он к 1980 году, как обещано в III-й программе КПСС, или раньше, или позже, или, чего доброго, никогда? Мужчина и женщина всемерно равны друг другу, или все-таки курица не птица, баба не человек?
На первый вопрос я сам себе отвечал уклончиво, поскольку, с одной стороны, я одобрял марксистскую резолюцию по основному вопросу философии, но, с другой стороны, меня смущало то обстоятельство, что, к примеру, из одних и тех же городских низов на поверку выходят лавочники, святые, воры и бунтари. На второй вопрос я отвечал уверенно: бога нет. Откуда же ему взяться, рассуждал я и сам удивлялся вескости своих доводов, если ничто так не напоминает международные отношения, как кровавые драки двух кланов цейлонских макак за фиговое дерево, если капитал правит большей частью мира, добывающего хлеб в поте лица своего, если на свете существует сколько угодно злых болванов, вроде моего одноклассника Кольки Малюгина, если свирепствует бесчисленное множество церквей, враждебных друг другу, и уж в высшей степени сомнительно, чтобы бог понимал молитвы по-готтентотски и на фарси. Занятно, что мне пришлось довольно долго пожить, еще лет двадцать, не меньше по крайней мере, чтобы в конце концов прийти к неизбежному согласию с Мальро: мировое зло — это не отрицание Бога, а мучительная загадка, которая, возможно, будет разгадана со временем, а возможно, не будет разгадана никогда. Впрочем, это и не так важно, потому что существует фундаментальное и неопровержимое доказательство бытия Божия: человек.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

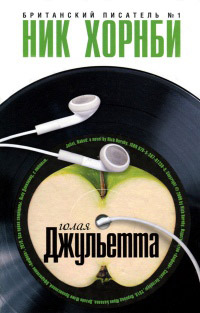



Комментарии