Все во мне... - Томас Бернхард Страница 10
Все во мне... - Томас Бернхард читать онлайн бесплатно
При всей мозаичности автобиографического повествования Бернхард создает довольно цельное полотно, привлекающее читателя кажущимся большим жизнеподобием, связанностью с социальным и бытовым миром, с рассказанными «историями». Автор подчеркивает свою установку на «добросовестную» фиксацию событий: «то, что я пишу, необходимо записать именно теперь, а не позже, именно в ту минуту, когда у меня есть возможность непредвзято вернуться к прошлому, восстановить то, что было в детстве, в юности, ‹…› описать прошлые события добросовестно, честно и нелицеприятно: и надо воспользоваться этой возможностью именно в данное время, рассказать всю правду, восстановить, воскресить прошлое, его истинную сущность» («Причина»), Заключая с читателем подобное «автобиографическое соглашение» (Ф. Лежен), он оказывается в ситуации, которая требует от него, помимо упомянутых качеств, еще и ответственности за свои рассказы о себе, о мире и о людях, с которыми он делил пережитое. Автобиографическое «я» не позволяет ему укрыться за маской (или масками) его персонажей, и каждое высказывание читатель вправе приписать не литературному «я» повествователя, а «паспортной личности повествующего» (Б. Дубин).
В случае с Бернхардом такой жанровый выбор был чреват существенными последствиями. И без этого творчество австрийского писателя воспринималось далеко не спокойно и не однозначно. Упреки в человеконенавистничестве, в отсутствии «этического ригоризма», в очернительстве, в профессиональном «поношении публики» занимали немалое место в суждениях о прозаике и драматурге при его жизни. Надо сказать, что подобные суждения не исчезают и после смерти художника. К примеру, известный австрийский режиссер и артист кабаре Вернер Шнайдер в 1999 г. в интервью журналу «Профиль» упрекает писателя в «тоталитаризме» и говорит о его произведениях как о пище для «удовлетворения мазохистских потребностей обывателя».
Литературная критика по поводу Бернхарда постоянно испытывала раздражение: жизнь ведь не такова, она выглядит совсем иначе, имеет совсем иные смыслы. Особенно сложно обстояли дела с Бернхардом в самой Австрии. Не раз и не два публика, пресса, далеко не рядовые политики остро реагировали на Бернхарда. В самом деле, как можно писать такое? Я цитирую из «Старых мастеров» об австрийцах: «‹…› Каким бы интересным и оригинальным ни казался австриец, он всегда либо отъявленный нацист, либо закоснелый католик». Или там же об учителях: «Вряд ли есть у кого-либо более скверный эстетический вкус, чем у учителей. Они и ребятам портят вкус в начальных классах ‹…› отбивают интерес к искусству ‹…› учителя душат живую жизнь, чтобы погубить ее вовсе ‹…›. К учительской карьере стремятся лишь сентиментальные тупицы из низших слоев среднего сословия. Учитель — это инструмент в руках государства, а поскольку само австрийское государство духовно и нравственно впало в полный маразм и не несет в себе ничего, кроме насилия, разложения и губительного хаоса, то и учитель не может нести детям ничего, кроме насилия, разложения и губительного хаоса».
Никому нет пощады — ни родителям, ни учителям, ни политикам, ни писателям. Неудивительно, что постоянное — на уровне лейтмотивов — «поношение публики» вызывало бурные протесты и отрицательные суждения по поводу самого автора. Однако были и многочисленные попытки судить о Бернхарде спокойно и взвешенно, не сводя его творчество к общему мизантропическому знаменателю. Например, Рольф Хоххут, известный немецкий драматург так комментирует обостренную реакцию венской публики на пьесу Бернхарда «Площадь героев» (1988): «Совершенно не замечают, что Бернхард — великий мастер клоунады. Почему все так ополчаются на него, коренного австрийца, якобы оскорбляющего Австрию, ведь на самом-то деле он, используя Австрию в качестве повода, смеется над нами всеми — и не в последнюю очередь над самим собой, писателем! Достается от него и британцам, и нам, немцам. Достается и чехам. И швейцарцам, о которых Бернхард говорит, что они ничего не смыслят в музыке. Не лучше ли было бы для политиков, вместо того чтобы гневно обвинять Бернхарда в том, что он гадит в собственном доме, просто понять наконец, что не только они, избранники народа, представляют этот народ, но что и художник способен играть ту же роль?»
Хоххут очень точно подмечает ту особенность творчества Бернхарда (да и всякого истинного писателя), которую не удавалось рассмотреть многим его современникам: его творчество не исчерпывается очернительством публики, не скукоживается в негативистском подходе к миру и человеку, его книгам и пьесам присуща та трагическая и одновременно насмешливая клоунада, та игра о жизни и смерти, которая позволяет говорить о полиперспективном видении мира, об особом юморе Томаса Бернхарда.
Кстати, на сложный рисунок бернхардовского творчества обратил внимание еще в 1983 г. Д. В. Затонский. Этот исследователь и тонкий знаток австрийской культуры отмечал двойственность отношения Бернхарда к собственной стране, его любовь-ненависть к ней. По Затонскому, Бернхард преувеличивает конфликтность современного австрийского пути, но его отчаяние и преувеличение — тоже форма самоопределения нации. И одновременно форма творчества. Именно «художником преувеличений» именует Бернхарда и В. Шмидт-Денглер в своей книге об австрийском писателе. [13]При всех критических и болезненных реакциях на Томаса Бернхарда (или благодаря им — см. послесловие В. Шмидт-Денглера к русскому изданию романа «Стужа») несомненна его колоссальная роль в социокультурном и литературном процессе Австрии с конца 1960-х гг. до настоящего времени (ему подражают, его темы, проблематика, настрой, даже отдельные образы — не говоря уж о манере письма — нашли широкий отклик в австрийской литературе 1960-1980-х гг.).
По мнению А. В. Михайлова, трагическое видение мира связано у Бернхарда с личной историей, с собственным человеческим опытом. «Подросток, почти еще ребенок в год окончания войны, Бернхард вынес в десятилетия послевоенной жизни ужас пережитого и — в том свидетельство надиндивидуального и потому подлинного призвания — всю жизнь молчал и говорил об этом ужасе. Говорил и молчал, потому что, оказывается, есть вещи, о которых невозможно рассказать, и уж тем более рассказать до конца ‹…› После Освенцима лирическая поэзия невозможна, как говорил один немецкий философ, и это правда: она возможна лишь тогда, когда вберет в себя ощущение своей невозможности, немыслимости, когда будет создаваться вопреки себе… Потому же всякое говорение тщетно до тех пор, пока не усвоит свою напрасность, пока не заключит в себя ледяную, не тающую глыбу молчания».
Бернхард и таком подходе к литературному творчеству не был одинок. Австрийский поэт и прозаик Ильза Айхингер в 1948 г. публикует книгу «Великая надежда», роман, с которого начинается послевоенная проза на немецком языке. По Айхингер, поэзия должна вновь обрести, завоевать право на слово, на звучание, право, утраченное людьми перед лицом «зверя из бездны», пробужденного их равнодушным безмолвием и шествовавшего под их восторженный рев. Лишь онемевшее слово, лишь беззвучный крик и оглушительный шепот способны проникнуть сквозь стену, окружающую наше «я». В статье «Призыв к недоверию» (1946) Айхингер требует от своих современников недоверия к самим себе, к тому в человеке, что «допускает зверя».
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
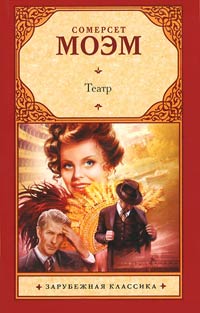




Комментарии