В поисках Парижа, или Вечное возвращение - Михаил Герман
- Доступен ознакомительный фрагмент
- Категория: Книги / Современная проза
- Автор: Михаил Герман
- Страниц: 101
- Добавлено: 2019-05-14 11:35:21
- Купить книгу
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту egorovyashnikov@yandex.ru для удаления материала
В поисках Парижа, или Вечное возвращение - Михаил Герман краткое содержание
Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «В поисках Парижа, или Вечное возвращение - Михаил Герман» бесплатно полную версию:Книга известного петербургского писателя Михаила Германа «В поисках Парижа, или Вечное возвращение» – это история странствий души, от отроческих мечтаний и воображаемых путешествий до реальных встреч с Парижем, от детской игры в мушкетеров до размышлений о таинственной привлекательности города, освобожденной от расхожих мифов и хрестоматийных представлений. Это рассказ о милых и не очень подробностях повседневной жизни Парижа, о ее скрытых кодах, о шквале литературных, исторических, художественных ассоциаций. Это и книга о том, как воспринимает Париж человек русской культуры, но главное – книга о любви к великому городу, понять который до конца не дано, наверное, никому.
В поисках Парижа, или Вечное возвращение - Михаил Герман читать онлайн бесплатно
Ознакомительный фрагмент
Париж – это предмет зависти для тех, кто никогда его не видел; счастье или несчастье (как решит судьба) для тех, кто в нем живет, но всегда – огорчение для тех, кто принужден покинуть его.
Оноре де Бальзак
Эта книга не столько о Париже, сколько о моей любви к нему. О любви трудной, неразделенной (что Парижу до нашей к нему любви!), неизбывной и неутоляемой. Книга о том, чем мне Париж дорог и мил, о том, чем я ему обязан. Я не искал объективности, скорее старался избежать ее. Да, писать о Париже – все равно что писать о любви: наивная уверенность, что ни у кого не было «как у тебя», детская убежденность в собственном неповторимом опыте. Вечное удивление, смущенная растерянность.
Парижане (в том числе и русские парижане), которым случится прочесть эту книгу, несомненно, сочтут ее сочинением иностранца-идеалиста.
Но я пишу о собственной любви, а о ней никто не знает лучше меня. Анни Жирардо сказала: «Я живу, чтобы помнить». Касательно Парижа я мог бы перефразировать ее слова: «Помню, чтобы жить».
* * *
Это – менее всего история города, еще менее путеводитель, и вы не отыщете здесь сведений в духе классических путеводителей, вроде Бедекера.
Это очень личная книга. В ней – пусть не покажутся мои слова претенциозными – рассказ о «странствиях души» от отроческих мечтаний и воображаемых путешествий до реальных встреч с Парижем. И размышления о тайне его сказочной привлекательности, которая так и осталась для меня тайной.
Во мне нет ни капли французской крови. Немецкие, русские, еврейские, польские и даже шотландские гены, составляющие мою биологическую национальность, никак не повлияли на формирование моих пристрастий. Хотя я писал не только о Франции, но и о Фландрии, о русском искусстве, выпустил две большие книги об Уильяме Хогарте. А Париж был и остался единственной любовью, ведь любовь вовсе не нуждается в аргументах и не слишком беспокоится о достоинствах и добродетелях своего предмета.
Как и во всякой любви, был период романтического «заочного обожания» – так влюбляется юноша в Наташу Ростову, а принц Жофруа – в принцессу Грёзу, так любил я Париж, не видя его, да и не надеясь увидеть. Были первые встречи, когда все казалось безупречным, прелестным, безоблачным. Были размышления, сомнения, болезненные разочарования, тяжело смешавшиеся с ностальгией по тому же Парижу! А обернулось все не до конца осмысленной, но выстраданной любовью. Которой есть множество объяснений, но которая, конечно, так и остается необъяснимой. Как говорила героиня бессмертного фильма Карне «Дети райка»: «Любить – это так просто».
С волнением и нежностью вспоминаю я Пьяцца д’Эспанья в Риме, Арно в синих сумерках и золотой мост Риальто, другие города и страны, в которых все-таки побывал: респектабельное великолепие Риджент-стрит и призрачную поэзию Ковент-Гардена, неподвижные каналы Брюгге. И писал я о многих городах и картинах.
Но ни об одном городе я не знаю столько, сколько о Париже (включая достаточно уже трезвое представление о том, сколь многого я не знаю!), ни один не вызывает у меня такого удивления, ни в одном из них я так подолгу не бывал, нигде не испытывал таких счастливых и тяжелых мгновений, ни об одном так много и трудно не думал и не писал, ни один не казался столь непостижимым. Сказать, что Париж – моя вторая родина, было бы выспренно и неточно, скорее, как часто говорят об Италии, это мое «отечество души». Можно было бы сослаться на слова Саша́ Гитри: «Быть парижанином не значит родиться в Париже; это значит родиться там заново». И все же в подобных суждениях, если применять их к самому себе, чувствуется претензия и приблизительность.
В Париже я почти всегда оставался не более чем наблюдателем – то нищим и поднадзорным, то унизительно зависимым от тех, у кого приходилось жить, то относительно свободным в новые времена, – но никогда я не был участником его «трудов и дней», его реальной жизни, не сражался, как ежедневно и ежечасно сражаются французы, за право работать и выживать, не знал той работы на износ, которая необходима, чтобы не сгинуть в Париже. И сколько бы ни тешили себя иностранцы, даже хорошо говорящие по-французски, знание языка – это лишь прихожая на пути в пространство французской жизни, мысли, тайных интеллектуальных и эмоциональных кодов, понимания иного, бесконечно закрытого мира. Даже умение думать по-французски, как все больше я замечаю, не означает думать как французы и понимать, как они думают.
Парижские «странствия души» человека из России, прожившего полвека при тоталитарном режиме, – явление, свойственное более всего именно Новейшему времени.
Казалось бы, наша культура устремлена к Франции, и каждый не одичавший в мучительном комплексе национальной исключительности русский всегда хотел в Париж. Казалось бы. Но не так уж любила Францию просвещенная Россия, как мнится нам нынче: отечественная культура в лице действительно великих своих представителей была переполнена ревнивым скепсисом.
«Русские мальчики» тянулись скорее к Гёттингену, чем к Сорбонне. Пушкин, с которого справедливо ведется отсчет этического и эстетического вкуса, относился к французам иронично и трезво. И Бопре, учитель Петруши Гринева, который «в отечестве своем был парикмахером», и мелькнувший на страницах «Дубровского» робкий Дефорж вовсе не предметы поклонения. Но кто, как Пушкин, знал у нас так по-французски, кто так писал о Регентстве, как не написал ни один французский мемуарист, кто так понимал страну, куда, как и вообще за границу, власти его не выпустили?
А что до иных вершин отечественной литературы, то легко ли сыскать у Гоголя, Толстого, Достоевского, Салтыкова-Щедрина хоть каплю любви к прекрасной Франции?
«При всех своих блестящих чертах, при благородных порывах, при рыцарских вспышках вся нация (французская. – М. Г.) была что-то бледное, несовершенное, легкий водевиль, ею же порожденный. Не почила на ней величественно-степенная идея. Везде намеки на мысли, и нет самых мыслей; везде полустрасти, и нет страстей; все не окончено, все наметано, набросано с быстрой руки; вся нация – блестящая виньетка, а не картина великого мастера» (Гоголь). «Правду писал Тургенев, что поэзии в этом народе il n’y a pas. Есть одна поэзия – политическая, а она и всегда была мне противна, а теперь особенно» (Лев Толстой). А «Война и мир» – как там написано о французах – от Наполеона до пошлого и обаятельного капитана Рамбаля! Чехов к Франции был скорее равнодушен, Парижа словно бы и не увидел, редкие французы в его рассказах скорее жалки. Зато иные строчки Бунина и Маяковского звучат признанием в любви; безмолвными признаниями были картины Шагала и Фалька; «Падение Парижа» Эренбурга заставило поверить в мужество города, становящегося призраком. Парижем восхищались Виктор Некрасов и Константин Паустовский, «выпущенный» туда на излете жизни…
* * *
Свою несвободу, склонность к почти болезненной рефлексии и нерешительность русское сознание ощущало и как вериги, и как предмет особой гордости. Российские интеллектуалы признавали, что в национальном сознании не было в достатке той ясности и конкретики мышления, которыми справедливо гордилась Франция. Разность мироощущения заставляла русских писателей и художников воспринимать французское искусство с той же болезненной заинтересованностью, с какой французы ныне читают Достоевского. Вероятно, русская культура испытывала нечто вроде ревности к свободе, которой, в отличие от нее, обладала культура французская. Свобода в эксперименте, независимость не только от художественных канонов и цензуры, но и от либерального ригоризма, свобода в самовыражении. Наконец (далеко не сразу обретенная и осознанная), свобода от обязательств перед обществом.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
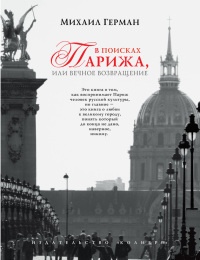

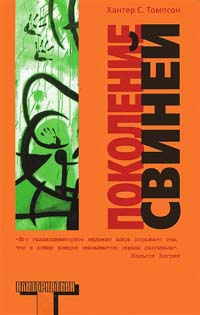



Комментарии