Если есть рай - Мария Рыбакова Страница 9
Если есть рай - Мария Рыбакова читать онлайн бесплатно
Ознакомительный фрагмент
Ты меня целуешь или решаешь в голове уравнения с двумя неизвестными, спросил Варгиз. У тебя отсутствующий вид.
Нет, я здесь, сказала я. Я смотрела на его чуть раскосые глаза, на его прямой нос, на высокие скулы.
Ты опять о чем-то мечтаешь, сказал Варгиз. Хочешь, мы пойдем и ляжем на постель, не снимая одежды. Чтобы ничего не произошло. Просто полежать.
Мы пошли к кровати, и я споткнулась об одиноко лежавший ботинок. Его пара, кажется, виднелась в противоположном углу.
В эмиграции, когда Гроссшмид состарился, его жена тяжело заболела. Он месяцами навещал ее в больнице и знал, что она обречена. Он многое бы дал, чтобы облегчить ее муки. Он хотел убить ее, но не решился. После ее смерти он купил пистолет и записался на уроки стрельбы, потому что не умел обращаться с оружием и боялся сделать ошибку, боялся оказаться инвалидом в больнице – вместо того чтобы покончить с жизнью навсегда. Он наметил самого себя как мишень и жил еще несколько лет с собой как с мишенью, смотрел на себя утром в зеркало и видел мишень, в которую выстрелит, когда придет время. Он ждал знака свыше, по которому понял бы: пора уходить. Он верил, что знак будет ему послан, хотя был атеистом.
Правда, его атеизм слегка пошатнулся в последний год жизни, когда в темноте спальни он увидел зеленоватый свет, исходивший от неожиданно возникавших в воздухе букв. Светящаяся строка бежала, и старческие глаза Александра Гроссшмида едва успевали читать ее. Были ли это галлюцинации или письма от жены с того света? В этих бегущих строках жена признавалась ему в любви, она вспоминала их путешествия. Александр Гроссшмид склонялся к тому, что это мираж, старый атеист не хотел сдавать позиции; это был мираж и любовь к родному языку, потому что, когда умерла жена, рядом не осталось никого, кто говорил бы на его языке, а Гроссшмид всегда утверждал, что родина писателя – это его язык.
Так он все же остался атеистом? – Кто? – Александр Гроссшмид. – Я не знаю. Знаю только, что он таки вышиб себе мозги двадцать второго февраля восемьдесят девятого года.
Он все сделал правильно, сказал Варгиз. Лучше так, чем мочиться в штаны и лежать овощем. А что про это сказали бы в семинарии, спросила я его, чтобы подразнить, и он ответил: я всегда знал, что духовная карьера не для меня, именно из-за таких глупых запретов, не прелюбодействуй, не наложи на себя руки, а ведь все зависит от ситуации и не существует одного рецепта для всех случаев жизни. Верно, сказала я, и представила его в белой сутане, девственником.
Мы лежали в постели рядом друг с другом, я чувствовала тепло его тела. Он смотрел на меня, и на этот раз глаза его были неподвижны. Они были темнее моих, темно-карие, в окружении длинных черных ресниц. Я хотела спросить, откуда у него маленький белый шрам возле верхней губы, но побоялась. От того, как Варгиз смотрел на меня, мне было приятно, но в то же время не по себе: мне казалось, что он ошибается, что он путает меня с кем-то другим, с кем-то прекрасным, и, как только я обниму его, он поймет свою ошибку. Но потом я подумала о том, как он подошел ко мне тогда, на ледяном ветру: как из всех, кто толпился тогда на бастионе, он все же выбрал меня.
Я поцеловала его, но остановилась, когда его руки заскользили вниз по моему телу.
Тогда Варгиз сказал: я тебе рассказал, как вырос в деревне. А ты мне расскажешь про себя?
Мои детские годы были намного скучнее твоих. Я не ходила в школу пешком через горы и долины, не делала уроки при свете керосиновой лампы, моя семья не выращивала черный перец, не ходила в церковь, не читала молитв. У меня в детстве что было? Колготки, рейтузы, школьная форма. За спиной – рюкзак, в руке – мешок со сменной обувью. Галдеж и давка в раздевалке, мы переобуваемся, стоя, как аисты, на одной ноге, кладем сапоги в мешок и вешаем на крючок вместе с курткой. Бегом – в класс, на четвертый этаж. Когда входит учительница, все встают. Она пишет дату на доске. Мы списываем ее в тетрадки. Обложки у наших тетрадей – мягких пастельных тонов. Между обложкой и первой страницей – промокашка, пережиток прошлого, оставшийся от чернильниц и клякс. Соседка по парте любит впервые открывать тетрадку, в которой еще ничего не написано. Мне, наоборот, нравится выводить последнюю строчку в исписанной тетради.
Варгиз, а какие у вас были тетрадки? Вы писали чернилами или шариковыми ручками, как мы? Вряд ли вас заставляли переобуваться. Может, некоторые вообще босиком приходили в класс? И какие у вас были парты? Пластиковые, как у нас, или деревянные? И чьи портреты висели в классе? У нас висел Пушкин.
В детстве, Варгиз, я была большим энтузиастом школы. И внешкольной работы. Тянула руку на уроке, читала стихи с выражением, громче всех. Агитировала класс собирать макулатуру и металлолом, писать письма детям Хиросимы, выходить на субботник, участвовать в первомайской демонстрации, брать шефство над первоклассниками, делать стенгазету, озеленять класс. И придумывала доводы, один другого фантастичнее, почему писать письма в Хиросиму надо прямо сейчас («а то американцы на них еще одну бомбу сбросят»), почему каждый из нас обязан принести из дому растение на подоконник («иначе нас убьет углекислый газ»), брать шефство над первым «Б» («если пустить первоклассников на самотек, они вырастут в малолетних преступников»).
Варгиз засмеялся и включил телефон (телефон лежал рядом, на тумбочке возле кровати, Варгиз не расставался с ним и во сне), чтобы показать изображение святого Георгия – Варгиза – из церкви в городе Эдатуа в Керале. Позолоченный Георгий, мечтательно глядя вдаль, вонзал, не целясь, копье в красногубую пасть поверженного дракона. Мой небесный покровитель, сказал он. Убивает драконов, спасает принцесс.
Но ведь ты ни во что это больше не веришь, сказала я.
Не верю, подтвердил он (Варгиз сказал это без гордости и без сожаления, равнодушно). Он отложил телефон и снова посмотрел на меня.
Что мы будем завтра делать?
«Мы» и «завтра»: это значило, что у меня есть как минимум еще двадцать четыре часа с ним. Мне надо будет их использовать, не теряя его ни на секунду из виду. Надо было непрерывно смотреть на него, трогать его, запастись им впрок (как верблюд водой перед походом в пустыню).
Я навсегда запомню, хотела я сказать, этот красный диван и твою незаправленную постель, и ботинки, раскиданные по полу, и то, как мы стояли у окна, и тропинку, и даже ту пьяную компанию, парней, кричавших, спускаясь к реке. Я запомню, как светилось здание Парламента и как оно исчезло в одну секунду, как звонил колокол, как холодно было на улице и как жарко – у тебя в комнате. Я запомню, что ты сказал, что похож на тюленя. Я запомню, что ты заговорил со мной на бастионах, там было много людей, много женщин, но ты выбрал меня, чтобы попросить сделать снимок. Ты мог подойти к любой, но ты выбрал меня, и я никогда этого не забуду. Я запомню, как целовала твои крестьянские руки, я запомню твое тело в огромной горячей ванне, я запомню, что ты закрывал полотенцем волосатую грудь, когда мы шли по коридору. Я запомню, что ты забыл мое имя и называл меня «ты», потому что стеснялся спросить. Я запомню все, потому что ты попросил меня не забывать. Потому что, пока ты не подошел ко мне и не попросил сфотографировать тебя на фоне города, я ходила по холодной площади и думала об Александре Гроссшмиде, который застрелился.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.



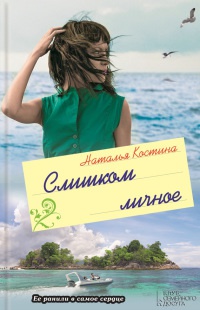

Комментарии