Любовь и другие диссонансы - Ирада Вовненко Страница 3
Любовь и другие диссонансы - Ирада Вовненко читать онлайн бесплатно
Ознакомительный фрагмент
— Вы когда-нибудь бывали в Москве? — спросил он, стряхивая пепел за окно.
— Нет. А вы?
— Очень давно. В семьдесят девятом. Зимой. Было очень, очень холодно. Настоящая зима. Теперь такие случаются не чаще, чем раз в четыре года. То в Европе, то в Австралии, то в Южной Африке. Или в Антарктиде, когда газетам больше не о чем писать. Полная чушь. Но все равно читают. Особенно летом, когда не нужно платить за отопление. Вы помните семьдесят девятый? Скорее всего, нет, вы тогда были слишком молоды. Может, вас и на свете не было. Хороший год. Для Хонеккера, может, и нет, но для вина — да. А знаете, кто такой Хонеккер? Видимо, да. Уж кто-кто, а поляки знают фамилии всех сукиных детей. Семьдесят девятый и для меня был хорошим годом. В январе я защитил докторскую, в июне жена наконец ушла, и я получил возможность поехать куда-то еще, кроме нашей дачи под Потсдамом. Если бы моя жена работала на «Штази», ГДР развалилась бы значительно позже или даже вообще не развалилась, — она всегда знала, где я буду, даже когда я сам еще этого не знал… Особого выбора у меня тогда не было: Варшава, София, Прага, Будапешт, Пхеньян, Гавана или Москва. Гавана оказалась не по карману, поездку в Пхеньян можно было расценивать лишь как наказание, а Бухареста и Тираны в списке не было. Румыния и Албания тогда рассматривались как «социалистические проститутки». Сначала Брежнев, а потом и Хонеккер говорили, что эти два еще недавно братских народа сошли с единственно верного пути и продались ревизионистскому Китаю. И я решил поехать в Москву — в самое средоточие зла. Хотя теперь думаю, лучше бы в Варшаву. Это был довольно редкий случай, когда интуиция меня подвела. Мне следовало поехать в Варшаву, а еще лучше — в Гданьск. Когда в сентябре семьдесят восьмого Войтылу избрали папой римским, я должен был почувствовать, что это начало конца.
— Как вы думаете, в Москве есть такие Дарьи? — спросил я.
— Понимаете, Войтыла был первым звоночком…
Я перестал его слушать. Разве может Мильке знать о Войтыле больше, чем я? Но даже если б это было так, Войтыла тогда интересовал меня гораздо меньше, чем Дарья. И я уверен, что Войтыла бы меня понял. Он был человеком, который понимал такие вещи и наверняка и сам был бы не прочь познакомиться с Дарьей из Москвы. Не знаю, заметил ли Мильке, что я потерял интерес к разговору. Когда я отходил от окна, он прикурил очередную сигарету и продолжал говорить. Это мой огромный недостаток. Если что-то перестает меня интересовать, я либо ухожу, либо, если уйти не могу, перестаю слушать. Я не воспринимаю ни одного бита информации, если она мне ничего не дает.
Выйдя в коридор, я сел в лифт, чтобы спуститься в котельную и покурить. Джошуа стоял на вершине горы из кокса и что-то громко ритмично выкрикивал. Когда я посмотрел на него и прислушался, мне вспомнился концерт некоего Матисьяху, молодого хасидского исполнителя регги из Нью-Йорка. Моя коллега Марлен из Канады, немолодая женщина, специалистка по органной и клавесинной музыке, однажды вечером не позволила мне запереться в номере и потащила в клуб в нью-йоркский Квинс, где очень молодой бородатый мужчина в кипе́ выступал перед толпой столь же молодых людей. Помню свой восторг и слова Марлен, которая сказала: «Это, кажется, самый крутой еврей из всех, кого я знаю. За исключением Иисуса…»
У меня совершенно вылетело из головы, что сегодня вечер пятницы, а значит, начало шабата. Джошуа в основном соблюдал шабат, но два исключения себе позволял: курил и слушал на своем айподе музыку. Он уверял, что «Мальборо», которое он курил, и айпод, который он слушал, кошерны, но не хотел просветить меня, как можно сделать кошерной музыку. Кошерное «Мальборо» я еще как-то мог себе представить, но кошерный айпод и звучащую из него кошерную музыку — нет. Видимо, только евреям это доступно. А Джошуа в первую очередь был евреем. А во вторую — темнокожим (его мать была эфиопкой, а отец — израильтянином) и гомосексуалистом (по убеждениям и для удовольствия, а не из-за генетики, как он сам уверял). Короче говоря, если цитировать дословно, он называл себя «обрезанным черным еврейским гомиком». И в довершение ко всему — членом (с членским билетом, имевшим номера одной из первых серий!) немецкой неонацистской партии НПД.
Его отец в начале шестидесятых получил в Германии политическое убежище. Джошуа родился в Мюнхене и, поскольку был младенцем, у которого никто не спрашивал согласия, получил немецкий паспорт. С этим паспортом он вступил в партию НПД, чтобы «организовать пятую колонну против этих мудаков с короткими членами в коротких черных кожаных штанах на коротких лямочках». Конец цитаты. Узнав об этом, отец хотел покончить с собой, но у него не было времени это сделать, потому что как раз должен был прийти транспорт с обувью из Милана, и он не мог уйти из жизни, не оплатив товар. А к тому моменту, когда обувь доставили и отец заплатил по счетам, он уже остыл. К тому же он заметил, что Джошуа, вопреки его ожиданиям, после вступления в НПД не стал вести себя «как эсэсовец», а продолжал оставаться все тем же евреем с пейсами и крючковатым носом. Его сыном.
Отец Джошуа еще один раз собирался покончить с собой — в тот вечер, когда сын представил ему Маркуса и после ужина и благодарственной молитвы вместе с другом исчез в так называемой детской комнате, отделенной тонкой стеной от ванной, где отец Джошуа не только принимал душ, чистил зубы, стриг ногти и листал «Плейбой», но иногда занимался онанизмом. А занимался он этим, когда за противоположной стеной ванной фрау доктор Генриэтта Вольф фон Аугсбург кричала во время «рукотворного» оргазма. В тот вечер по той же причине, но гораздо громче, кричал за другой стеной ванной его сын, Джошуа Абрахам Давид Исаак Гроссман. Тогда-то отец вновь вспомнил о том, что мог бы свести счеты с жизнью, однако, наученный горьким опытом, на время отложил принятие решения.
Джошуа влюбился в Маркуса на одном из собраний НПД в Нюрнберге. Это была любовь с первого взгляда. У Маркуса были великолепные широкие мускулистые плечи, аппетитные ягодицы и рот, который казался слишком маленьким для его пухлых губ. Типичный ариец. Два года эти губы и ягодицы принадлежали только Джошуа. Потом Маркус бросил его, и эти губы, и то, что между ягодицами, и все остальное, что было Маркусом, стало собственностью Мирко из Хорватии. Целый месяц Джошуа терпел Мирко. Потом впал в депрессию, а однажды поздно ночью сел в такси и поехал в психушку. Вначале он собирался в клинику Charité, но, проверив содержимое бумажника, выбрал Панков, который больше соответствовал его финансовым возможностям — с учетом ночных тарифов берлинских такси.
Он рассказал молодому врачу о том, что сейчас больше всего на свете хочет умереть, показал свои запястья с нарисованными красным фломастером линиями «для лезвия», рыдал, говорил о страданиях евреев и дрожал всем телом. Теперь у него есть крыша над головой, завтраки, вторые завтраки, обеды, полдники, ужины и рояль в зале для отдыха. А немцы за все это платят. Чего же еще? Маркуса все равно не вернешь. Да уже и не хочется.
Джошуа стоял на вершине угольной кучи в котельной, курил кошерное «Мальборо», слушал кошерную музыку и, как я полагал, молился. Несмотря на плотно прилегающие к ушам наушники, выкрикивавший молитвы Джошуа в самом деле немного напоминал Иисуса, каковым иногда себя воображал.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.



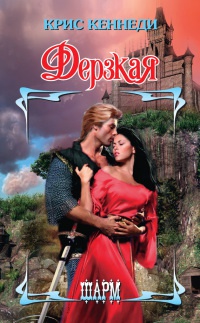

Комментарии