Маленькая ручка - Женевьева Дорманн Страница 22
Маленькая ручка - Женевьева Дорманн читать онлайн бесплатно
— Ты с ним уедешь?
— А, не знаю. Посмотрим.
* * *
На острове знают: каждый год 16 июня, в годовщину смерти Лазели, Огюст Шевире чтит память своей жены с утра до вечера по-своему: с помощью кальвадоса и пива попеременно, чтит до тех пор, пока «тра-та-та-та-та», прикончившее Лазели, не утихнет у него в голове. Это продолжается уже пятьдесят лет. Ни слова о ней, ничего. Он пьет. Он несет свой траур, как здесь говорят, в молчании, с утра прилипнув задом к высокому деревянному табурету у стойки кафе «Трюм».
Округлив спину, втянув голову в плечи, спрятав глаза под козырьком синей фуражки, натянутой по самые брови, он сжимает в левой руке, лежащей на стойке, пачку банкнот, специально для этого извлеченную из коробки из-под печенья, служащей ему сейфом. Это чтобы успокоить Коко Муанара, хозяина «Трюма», прославленного своей скупостью на весь Ла Манш. Ни один житель Котантена не может похвастаться тем, что пропустил задарма стаканчик у Коко Муанара. Этим он известен на самом Джерси и даже Гернси. Еще недавно, когда британские простаки высаживались на Шозе во время регат, когда зал кафе был полон, а официантки едва успевали разносить заказы, в момент подсчетов раздавалось тявканье ржавого голоса Коко: «Это французу или англичанину?» И в зависимости от ответа цена менялась от простой до тройной. Поэтому, само собой разумеется, в один прекрасный день английские суда больше не пришли, и Коко осталось жмотничать только на островных рыбаках и летних туристах. Он это делает с тем большей уверенностью, что кафе «Трюм» — единственный кабачок архипелага. Этого хама все ненавидят, но куда пойти выпить, когда наступает вечер и жены дома прячут бутылки? Время от времени злоба прорывается наружу: парни пускают струю вдоль прилавка. Однажды молодые рыбаки набили ему морду, и Коко Муанар три недели гулял в ортопедическом ошейнике. Но щедрее от этого не стал.
Вот почему осторожный Огюст специально потрясает своими банкнотами перед носом Коко, показывая: у него есть на что утопить свое горе. И когда Коко смотрит на пачку в кулаке папаши Шевире, то открывает в улыбке свои металлические зубные протезы. Он обожает дни траура Огюста и, радуясь поживе, лишний раз проводит тряпкой по жирному прилавку. Когда старик рухнет со своего табурета, он поднимет его, как пушинку, и вынесет через заднюю дверь туда, где держит мусорные ящики. Каждый день бы такое горе, вот бы пошла торговлишка!
Но горюет ли он все еще? К девяноста пяти годам память старика — лишь кружево, развевающееся на ветру, непредсказуемая и взбалмошная. Не стоит спрашивать у него, что он делал на прошлой неделе и даже вчера. Он живет день за днем и забывает свою жизнь из часа в час. Зато он точно помнит имена, даты, мельчайшие детали, самые незначительные события, происшедшие с его детства до возмужания. Он, если захочет, может перечислить все фамилии учеников своего класса выпуска 1908 года и описать лица. Или рассказать про Салоники (1917 год), словно это было вчера.
Но кульминационный момент его воспоминаний — именно тра-та-та-та-та, смерть той сукиной дочери Лазели на пороге дома в Авранше. Он уже давно перестал ее оплакивать, но каждый год она вновь предстает перед его старыми глазами, 16 июня, с самого утра, в зеленом платье в белый горошек и большом синем фартуке, который не успела снять. Он видит раскрытый рот Лазели, который не смогли закрыть, перед тем как положить ее в гроб, и который даже пришлось подвязать лентой, протянув ее под подбородком и завязав на макушке; это, возможно, придавало ей вид пасхального яйца, но покойница с открытым ртом — так не полагается. С глазами сделать ничего не удалось. В суматохе после расстрела прошло время, Лазели остыла, а потом черта с два закроешь ей веки. Она смотрела на него, Огюста, до самого конца, пристально, своими серо-голубыми глазами, на этой раз без злобы; глазами, какие были у нее вначале, когда она была юной девушкой, которую он завалил на Вирго. Удивленными глазами, словно задающими вопрос, на который он не мог ответить. Смущающий взгляд. Ему стало легче, когда ей прикрыли лицо простыней и закрыли сверху крышкой. Да, легче, но не надолго, черт побери! Последний, вопрошающий взгляд Лазели так с него и не сходил. И все прошедшие с тех пор 16 июня ничего не изменили, и сегодняшнее тоже. Огюст мучительно ищет на дне стакана ответ, что надо сделать, чтобы ужасные глаза Лазели, наконец удовлетворившись, закрылись, исчезли и перестали его терзать. Но пойди найди ответ на вопрос, которого даже не знаешь! В «Руководстве» на сей счет ничего не сказано. И вообще нигде. Он смутно припоминает, что прочел когда-то книгу, где было написано, что время стирает все — и самое хорошее, и самое плохое. Враки! Ни черта время не стирает! Время даже не смогло закрыть веки Лазели. Пиво и кальвадос понадежнее будут в этом деле, это уж точно!
— Коко, еще плесни!
Однако от Лазели осталось меньше, чем от остова лодки, носившей ее имя: Ла Зели, в два слова, нарисованных белым на ее синем заду, над рулем. Все это сейчас растрескалось, полустерлось. Лодка раздора! Лодка молчания! Красивая лодочка, построенная в Сен-Назэре, одновременно пузатенькая и стройная, с маленькой каюткой, где можно укрыться в непогоду. А мотор такой, что она из воды выпрыгивала. Он дал лодке имя Лазели, думая умаслить жену, что она смягчится и забудет, как он добыл денежки на покупку… Черта лысого умаслил! Такой безделицей ее не обезоружишь, эту Зели Бетэн! Она даже не пришла на крещение лодки. Единственная на острове не пришла, чертова кукла! Ее всюду искали! Улетела! Исчезла! Пришлось святить без нее. Ну и ладно, уж и пришлось им поплавать с этой лодочкой. Он измотал ее за тридцать лет в море. Под конец она скрипела всем корпусом и пропускала воду в щели. Понемногу матросы покинули его, чтобы работать самостоятельно, как они говорили. Ага! Да им страшно было! Они предпочитали ходить на крепкой лодке… Он остался один и в конечном счете не был этим недоволен. Он в то время был еще молод: семьдесят два-семьдесят три года… Они не могли прийти в себя, видя, как он снаряжает садки — совсем один, сидя на причале. Он посвистывал, чтобы их унизить, и притворялся глухим, когда его предостерегали: «Вы не боитесь ходить на такой старой галоше, папаша Шевире?» Словно бы они и не крестились, видя, как он отчаливает! Ладно, он не уходил далеко, но все-таки исчезал из виду, двигаясь на Менкье, довольный их тревогой. Он увозил удочки и бутылки, охлаждая их в ведре, спрятанном в каютке. И брезент, чтобы спрятать от глаз насмешников пустые садки, которые привозил обратно слишком часто.
Его сын Сильвэн — да что это я болтаю? Не Сильвэн, а Жан-Мари… Сильвэн — это сын Жана-Мари, или наоборот? В общем, сын даже предложил ему купить новую лодку. Славный паренек этот Сильвэн! Жаль, что он взорвался на своем судне. Далеко бы пошел… Новую лодку, легко сказать! Новую лодку, в его-то возрасте! Незнакомую лодку, которую надо будет приручать? Ни за что. «Ла Зели» не заменишь, черт возьми! Спасибочко, Жан-Мари! Буду ходить на этой или не буду ходить вообще!
Он долго проходил на этой. Сломался мотор в лихую погоду, позади Дешире, — и «Ла Зели» налетела на чертов камень у самой поверхности воды, проделавший в ней вот такую дырку. Огюст был вынужден скорехонько возвращаться, гребя веслом. Несколько часов гребли в отлив и против течения. Он прибыл к ночи, сердце колотилось от усталости! Счастье еще, что было темно: никто его не видел, слава тебе, Господи! На этот раз он уступил. Он навсегда отправил «Ла Зели» в Трюэль, в бухту Громон, где кончают жизнь выброшенные на свалку лодки.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.


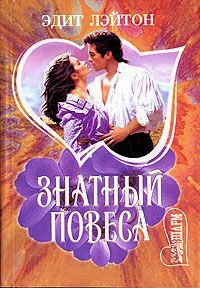
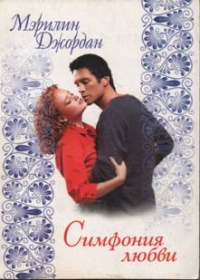

Комментарии