Метастазы удовольствия. Шесть очерков о женщинах и причинности - Славой Жижек Страница 9
Метастазы удовольствия. Шесть очерков о женщинах и причинности - Славой Жижек читать онлайн бесплатно
Ознакомительный фрагмент
Когда либидинальным влечениям не дают проявляться как осознанным намерениям, они приобретают черты псевдоестественных причин, т. е. черты «оно» qua слепой силы, повелевающей субъектом за его спиной. «Оно» проницает текстуру повседневного языка, искажая грамматику и мешая положенному применению публичного языка ложными семантическими определениями: в симптомах субъект говорит на «личном языке», не понятном его осознанному «я». Иными словами, симптомы суть фрагменты публичного текста, привязанные к символам недопустимых желаний, исключенных из публичной коммуникации:
На уровне публичного текста подавленный символ объективно понятен благодаря правилам, вытекающим из случайных обстоятельств жизненной истории индивида, но не связанным с ней согласно субъективно осознанным правилам. Поэтому симптоматическое сокрытие значения и сопряженного с ним искажения взаимодействий сходу не в силах понять ни другие, ни сам субъект [54].
Психоаналитическое толкование проявляет идиосинкразическую связь между фрагментами публичного текста и символами недопустимых либидинальных влечений, оно переводит эти влечения на язык межсубъектной коммуникации. Последняя стадия психоаналитического лечения достигается, когда субъект осознает сам себя, свои мотивации, в отцензурированных главах собственного самовыражения и способен излагать историю своей жизни во всей полноте. В первом приближении психоанализ таким образом двигается путем причинного объяснения: он освещает причинную цепь, которая, при неведении субъекта, породила симптом. Однако – и на этом зиждется настоящее представление о самосознании – само это объяснение цепи причинности исключает его действенность. Сообразное толкование не только ведет к «истинному знанию» симптома, оно одновременно и устраняет симптом, а значит, и «примиряет» субъекта с самим собой – акт познания сам по себе есть акт освобождения от бессознательного вынуждения. Следовательно, Хабермас может мыслить бессознательное согласно модели самоотчуждения, по Гегелю: в бессознательном коммуникация субъекта с самим собой прервана, а психоаналитическое лечение сводится к примирению субъекта с «оно», своей отчужденной субстанцией, неверно распознанной объективизацией субъектом самого себя, т. е. лечение сводится к расшифровке субъектом симптома как выражения его собственных нераспознанных влечений:
Озарение, к которому должен вести анализ, состоит явно лишь в этом: «я» пациента признает себя в другом, представленном болезнью этого «я» как в своей собственной отчужденной «самости», и идентифицирует себя с ним [55].
Однако не следует поспешно поддаваться этому кажущемуся «гегельянству»: в глубине его уже происходит своего рода «возврат к Канту». Совпадение истинных мотиваций с выраженным значением и попутный перевод всех влечений на язык публичной коммуникации имеют свое место в кантианской регулирующей Идее, приближаясь к ней асимптотически. Подавление символов недопустимых желаний, прерванная коммуникация субъекта с самим собой, подлог идеологического Общего, скрывающий тот или иной частный интерес, – все это возникает по эмпирическим причинам, которые снаружи воздействуют на систему языка. Еще раз, по-гегельянски: необходимость искажения не содержится в самом понятии о коммуникации, но обусловлена действительными обстоятельствами труда и подавления, мешающими воплощению идеала – отношений власти и насилия не присущи языку внутренне [56].
Отказывая историческому Реальному в «материальном весе», сводя его к условной силе, коя снаружи воздействует на нейтральную трансцендентальную координатную сетку языка и не позволяет ему «нормально» функционировать, Хабермас увечит психоаналитический толковательный процесс. В этом процессе теряется фрейдистское различение между латентной мыслью сновидения и неосознанным желанием, т. е. настояние Фрейда на том, как «нормальный ход мыслей» – нормальный и как таковой выразимый языком публичной коммуникации – «подлежит необычному психическому лечению, которое мы описали», т. е. снотворчеству, «если бессознательное желание, восходящее к младенчеству и в состоянии подавления, оказалось перенесено на него» [57].
Хабермас сводит работу толкования к переводу «латентной мысли сновидения» на межсубъектно признаваемый язык публичной коммуникации, никак не считаясь с тем, как эта мысль «втянута» в бессознательное, если только какое-нибудь уже бессознательное желание не встретит в нем эхо благодаря своего рода передаточному «короткому замыканию». И, как говорит сам Фрейд, это уже бессознательное желание есть «первобытно подавленное»: оно содержит «травматическое ядро», у которого нет «исходника» в языке межсубъектной коммуникации и которое поэтому навеки по природе своей ускользает от символизации, т. е. (пере)перевода на язык межсубъектной коммуникации. Тут мы сталкиваемся с несочетаемостью герменевтики (какой бы «глубокой» герменевтика ни была) и психоаналитической интерпретацией: Хабермас может утверждать, что искажения имеют смысл как таковые – непостижимым для него остается то, что значение как таковое проистекает из определенного искажения, что появление значения основано на отречении от некого «первобытно подавленного» травматического ядра.
Это травматическое ядро, этот остаточный член, не поддающийся субъективации-символизации, stricto sensu, есть причина субъекта. И именно в отношении этого ядра непреодолимая пропасть, отделяющая Хабермаса от Адорно, проявлена со всей ясностью: Хабермас спасает псевдогегельянскую модель присвоения субъектом отчужденно-овеществленного субстанциального содержания, тогда как у Адорно преобладающая тема – «превосходство предмета» – ставит эту модель под вопрос, привлекая «децентрированность», которая, не указывая на отчуждение субъекта, очерчивает грань возможного «примирения». Хабермас и впрямь снимает напряжение, заметное в позднем Адорно; однако удается это ему не «приведением к пониманию» «недодуманного» у Адорно, а изменением всей проблематики, что придает действующему напряжению у Адорно неосязаемость, расплющенность. Как же тогда, если всмотреться, приводит к пониманию недодуманное у Адорно (раз уж, если выложить все карты на стол, достижение Лакана в этом смысле лежит в основе нашего чтения Адорно)?
Лакан начинал с безусловной поддержки герменевтики: еще в своей докторской диссертации 1933 года и, особенно, в «Disours de Rome» [58], он отказывается от детерминизма в пользу (психоанализа как) герменевтического подхода: «Любой аналитический опыт есть опыт обозначения» [59]. Отсюда происходит сильная Лаканова идея о futur antérieur [60] символизации: факт учитывается не как factum brutum [61], а исключительно как всегда-уже историзованный. (На анальной стадии, к примеру, все дело не в дефекации как таковой, а в том, как ребенок ее осмысляет: как подчинение приказу Другого (родителя), как торжество собственной власти и т. д.) Это Лакан легко переводит в плоскость дальнейшей проблематики антипсихиатрии или экзистенциального психоанализа: Фрейдовы клинические обозначения (истерия, навязчивый невроз, извращение и т. д.) суть не «объективные» категории, клеймящие пациента; они нацелены на умонастроения субъекта, его «экзистенциальные проекты», которые выросли из отдельно взятых межсубъектных ситуаций субъекта, и за которые субъект в свободе своей так или иначе ответственен.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.



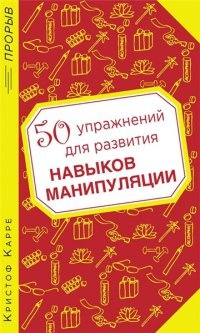

Комментарии