Первый человек - Альбер Камю Страница 6
Первый человек - Альбер Камю читать онлайн бесплатно
Ознакомительный фрагмент
И волна нежности и жалости затопила вдруг его сердце, но это было не то чувство, какое вызывает в сыне воспоминание о погибшем отце, а острое сострадание, которое зрелый человек испытывает к безвинно убитому ребенку. Что-то тут не укладывалось в естественный порядок, да и не было его, этого порядка, там, где сын оказывался старше отца, а были лишь безумие и хаос. Последовательное течение времени разбилось об него, Жака Кормери, неподвижно стоявшего между могил, которых он больше не замечал, и годы, смешавшись, вырвались из русла той великой реки, что вечно несет их к своему устью. Они сталкивались, с бурлением и грохотом, в гигантском водовороте, где Жак Кормери барахтался сейчас, борясь со смятением и жалостью [14]. Он смотрел на другие надгробия, на даты и видел, что эта земля усеяна мертвыми детьми, которые были отцами седеющих людей, считавших себя живыми. Ведь и он считал, что живет, он воспитал себя сам, он сознавал свою силу, выдержку, умел бороться и владеть собой. Но сейчас, в охватившем его странном головокружении, он чувствовал, что та статуя, которую каждый человек постепенно лепит и обжигает в пламени лет, чтобы в итоге слиться с ней и, укрывшись внутри, ждать окончательного распада, стремительно трескается, разваливается на глазах. От всего, чем он был до сих пор, осталось лишь пронзенное тревогой сердце, страстно любящее жизнь и бунтующее вот уже сорок лет против устройства мира, где правит закон смерти, сердце, которое всегда жаждало преодолеть стену, отделявшую его от тайны жизни, преодолеть и очутиться по ту сторону, и узнать, узнать, прежде чем придет смерть, узнать наконец, чтобы быть – хоть однажды, хоть на один-единственный миг, но раз и навсегда.
Он припомнил свою жизнь, безрассудную, мужественную, неверную, упрямую, всегда устремленную к этой цели, о которой он ничего не знал, и, по сути дела, прошедшую без малейшей попытки выяснить, что же представлял собой тот, кто дал ему эту самую жизнь и отправился потом умирать куда-то за море, в неведомую ему землю. А каким сам он был в двадцать девять лет? Беспокойным, уязвимым, напряженным, волевым, чувственным, мечтательным, циничным и упорным. Да, и не только. Он был живым человеком, мужчиной в конце концов, но ни разу не подумал о своем отце как о живом человеке, а только как о незнакомце, промелькнувшем когда-то на земле, где он родился, и лишь знал со слов матери, что отец пал смертью храбрых и что он, Жак, на него похож. А между тем тайна, которую он так жадно стремился познать через книги и людей, была, как теперь ему казалось, связана с этим юным покойником, с его младшим отцом, с тем, чем он был и чем стал, с тем, что сам он искал так далеко и что оказалось так близко – и по времени, и по крови. Правда, ему никто никогда не помогал. Семья, где говорили мало, где никто не читал и не писал, мать, страдающая, рассеянная, – кто мог рассказать ему о его бедном молодом отце? Никто его не знал, кроме матери, которая забыла его. Жак был в этом уверен. И он умер незнакомцем на этой земле, где пробыл недолго, как чужой. Конечно, именно он, сын, должен был узнавать о нем, расспрашивать. Но тому, кто не имеет ничего и жаждет получить весь земной шар, недостаточно собственных сил, чтобы воспитать себя и покорить или понять мир. В конце концов, еще не поздно, можно еще заняться поисками, попытаться узнать, кто был этот человек, казавшийся ему теперь ближе всех людей на свете. Можно…
День угасал. Шорох юбки поблизости и чей-то силуэт в черном вернули его к зрелищу могил и неба. Пора было уходить, ему больше нечего здесь делать. Но он не мог оторваться от этого имени, от этих дат. Под темным надгробием не было уже ничего, кроме праха и пыли. Но для него отец снова жил, жил странной безмолвной жизнью, и ему казалось, что он, Жак, опять бросает его, оставляет одного в этой ночи, в этом нескончаемом одиночестве, куда его швырнули и покинули. В пустом небе вдруг что-то оглушительно грохнуло. Невидимый самолет преодолел звуковой барьер. Повернувшись спиной к могиле, Жак Кормери зашагал прочь от отца.
Вечером, за обедом, Ж.К. смотрел, как его старый друг с какой-то тревожной жадностью поглощает вторую порцию баранины; поднявшийся ветер негромко шумел вокруг невысокого домика, расположенного в предместье, неподалеку от дороги к пляжам. Приехав, Ж.К. заметил в пыльной сточной канаве у тротуара обрывки высохших водорослей – только они да запах соли напоминали здесь о близости моря. Виктор Малан, проработавший всю жизнь в таможенном управлении, вышел в отставку и остался жить в этом городке, которого он не выбирал, однако впоследствии оправдывал это как выбор, говоря, что здесь ничто не отвлекает его от одиноких раздумий – ни чрезмерная красота, ни чрезмерное безобразие, ни даже само одиночество. Управление делами и руководство людьми открыли ему многое, и прежде всего, видимо, то, что мы почти ничего не знаем. При этом он обладал огромной эрудицией, и Ж.К. безмерно восхищался им, ибо Малан в эпоху, когда люди одаренные так скучны, был единственным человеком, способным мыслить независимо, насколько это вообще возможно, – во всяком случае, при внешней уступчивости обладал такой свободой суждения, что она граничила с самой неподдельной оригинальностью.
– Конечно, мой мальчик, – говорил Малан. – Поскольку вы едете к матери, постарайтесь что-нибудь разузнать об отце. А потом бегом ко мне – рассказать, что из этого вышло. Так редко представляется случай посмеяться.
– Да, это смешно. Но, раз уж во мне пробудилось любопытство, я попробую собрать хоть какие-то крохи. В том, что я никогда этим не интересовался, есть что-то противоестественное.
– Вовсе нет, это мудро. Я тридцать лет был женат на Марте, хорошо вам знакомой. Замечательная была женщина, мне до сих пор ее не хватает. Я всегда считал, что она любит свой дом [16].
– Все это, бесспорно, так, – сказал Малан, отводя глаза, и Кормери знал, что за одобрением неминуемо последует возражение.
– И все-таки, – продолжал Малан, – я был бы, вероятно, не прав, но я бы поостерегся пытаться узнать больше, чем жизнь сама открыла мне. Однако я плохой пример для подражания, не так ли? В сущности, я не стал бы ничего предпринимать исключительно по причине своих недостатков, зато вы, – во взгляде его блеснуло лукавство, – вы человек действия.
В Малане было что-то от китайца – чуть приплюснутый нос, лунообразное лицо с отсутствующими или почти отсутствующими бровями, вечный берет и большие усы, недостаточно, однако, густые, чтобы скрыть мясистый чувственный рот. Да и весь он, круглый, холеный, с пухлыми руками и короткими пальцами, напоминал мандарина, признающего передвижение только в паланкине. Когда он, не переставая с аппетитом есть, прикрывал глаза, воображение настойчиво рисовало его в шелковом халате, с палочками в руках. Но взгляд менял все. Темно-карие глаза, лихорадочные, беспокойные или устремленные вдруг в одну точку, как будто ум его быстро работал над какой-то конкретной мыслью, были глазами европейца, остро чувствующего и обладающего высокой культурой.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

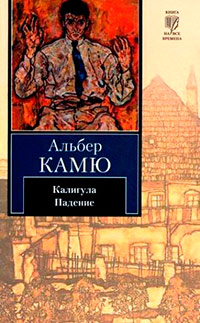
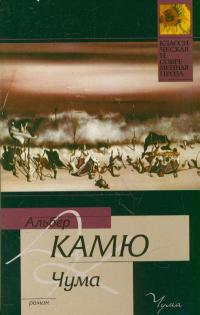
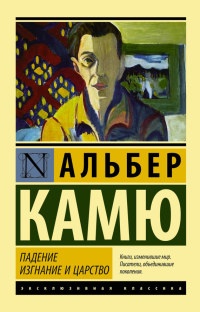
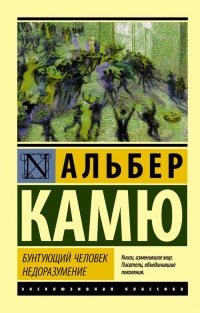
Комментарии