Первая любовь - Сэмюэль Беккет Страница 5
Первая любовь - Сэмюэль Беккет читать онлайн бесплатно
Ознакомительный фрагмент
– Итак, вы живете проституцией?
– Мы живем проституцией, – ответила она.
– Не могли бы вы просить их вести себя потише? – спросил я, как если бы поверил в то, что она мне сказала. – Или издавать какие-нибудь другие звуки?
– Им нужно визжать, – сказала она.
– Я буду вынужден уйти.
В семейном капернауме она разыскала две занавески и повесила их над нашими дверями, над моей и над своей. Я спросил ее, нет ли какой-либо возможности время от времени есть пастернак.
– Пастернак! – вскричала она так, будто я пожелал отведать иудейского младенца.
Я заметил ей, что сезон пастернака подходит к концу и что я буду ей признателен, если отныне она будет давать мне только пастернак.
– Только пастернак! – вскричала она.
Для меня пастернак обладает вкусом фиалок. Мне нравится пастернак, потому что у него вкус фиалок, и фиалки, потому что у них аромат пастернака. Если бы на земле не было пастернака, я бы не любил фиалки, а не будь фиалок, пастернак был бы мне так же безразличен, как репа или редис. Должен сказать, что даже при современном состоянии флоры, то есть в мире, где пастернак и фиалки находят способ сосуществовать, я легко обхожусь без одного и без других. Однажды она имела дерзость заявить мне, что беременна, что она на четвертом или пятом месяце, причем моими трудами. Она встала в профиль и попросила меня посмотреть на ее живот. Она даже разделась, несомненно для того, чтобы доказать мне, что не прячет под юбкой подушку, ну и, разумеется, ради чистого удовольствия разоблачиться. Может быть, это только газы, сказал я, пытаясь ее приободрить. Она взглянула на меня большими глазами, цвет которых я позабыл, точнее, своим большим глазом, так как другой, по-видимому, нацелился на останки гиацинта. Ее косоглазие усиливалось по мере того, как она сбрасывала одежду. Глядите, сказала она, наклоняясь вперед, вокруг сосков уже начало темнеть. Я собрался с последними силами:
– Сделайте аборт, заклинаю вас, соски и перестанут темнеть.
Она отдернула шторы, чтобы ни одна из ее округлостей не ускользнула от взора. Я увидел гору, неприступную, со множеством пещер, таинственную, где с утра до вечера слышен только ветер, пение куликов и далекие, серебристые удары молотков, которыми орудуют каменотесы. Днем я бы выходил на жаркую пустошь, поросшую вереском и душистым диким дроком, а вечером смотрел бы на далекие городские огни, если бы мне того хотелось, и на те, другие огни, принадлежавшие маякам на суше и маякам плавучим, которые называл мне отец, когда я был ребенком, чьи имена я мог бы восстановить в памяти, если б хотел, если б умел. С того дня дела мои в этом доме пошли плохо и чем дальше, тем хуже, и не потому, что она мной пренебрегала, сколько бы она мной ни пренебрегала, мне ее пренебрежения все равно было бы недостаточно, но потому что она зачумила меня нашим ребенком, без конца демонстрируя мне свой живот и груди, сообщая мне, что она вот-вот родит, она уже чувствует, как он прыгает у нее в утробе. Если он прыгает, сказал я, значит, он не от меня. В этом доме мне жилось не слишком плохо, это точно, хотя, очевидно, обстоятельства отстояли далеко от идеальных, но не надо и приуменьшать выгоду. Я колебался, прежде чем уйти, уже летели листья, я страшился зимы. Не следует страшиться зимы, у нее свои прелести, снег согревает и заглушает звуки, а тусклые зимние дни быстро истощаются. Но в ту пору я еще не знал, насколько доброй земля может быть к тем, у кого ничего, кроме нее, нет и как живые могут в ней хорониться. Добили меня роды. Меня разбудили. Что пришлось вынести этому ребенку! Наверное, с ней рядом находилась женщина, так как время от времени мне казалось, что я слышу шаги на кухне. На сердце лежал камень, ведь я уходил из дома, откуда меня не выгоняли. Я перелез через спинку софы, надел пиджак, пальто и шляпу, я ничего не забыл, завязал шнурки и открыл дверь в коридор. Путь мне преграждала гора хлама, но я ее преодолел, перешел через перевал, разбил преграду с шумом и грохотом. Я говорил о браке, ведь это действительно был своего рода союз. Производить шум я не стеснялся, с ее криками состязаться было совершенно невозможно. Наверное, это был ее первенец. Крики преследовали меня и на улице. Я остановился у двери дома и прислушался. Они все еще до меня доносились. Не зная, что в доме испускают крики, я, возможно, никогда бы их не услышал. Но, вооруженный знанием, я слышал их хорошо. Я не слишком хорошо понимал, где нахожусь. Среди звезд и созвездий я поискал Колесницу [2], но не нашел. Однако ее место было там. Впервые мне показал ее отец. Он показал мне и другие созвездия, но в одиночестве, то есть без него, я никогда не мог найти ни одного созвездия, кроме Колесницы. Я чуточку поиграл с криками, как некогда играл с песней, отдаляясь, останавливаясь, отдаляясь, останавливаясь, если только можно назвать это игрой. Пока шел, я не слышал криков благодаря звуку собственных шагов. Но стоило мне остановиться, как я слышал их снова, с каждым разом, конечно, слабее, но разве в конце концов важно, слабый крик или сильный? Важно лишь то, что он должен прекратиться. Много лет я думал, что крики прекратятся. Теперь я так больше не думаю. Возможно, мне следовало любить и других. Но ведь сердцу не прикажешь.
1945
Они одели меня и дали мне денег. Я знал, для чего предназначены деньги, для того, чтобы я снялся с якоря. Когда бы я их истратил, мне предстояло найти еще денег, если я намеревался продолжать. То же относилось к туфлям, когда бы они износились, мне предстояло их починить, или найти себе другие, или продолжать путь босиком, если я намеревался продолжать. То же к пиджаку и к брюкам, им даже не было нужды говорить мне об этом, с той лишь разницей, что я мог продолжать ходить в одной рубашке, если мне было угодно. Одежда – туфли, носки, брюки, рубашка, пиджак и шляпа – была не новая, но покойный, должно быть, носил со мной почти один размер. То есть я хочу сказать, что он, наверное, был чуть меньше меня, чуть менее тучный, потому что вначале одежда пришлась мне чуть менее впору, чем в конце. Прежде всего, я говорю о рубашке, у которой мне долгое время не удавалось ни застегнуть верхнюю пуговицу, ни, как следствие, воспользоваться пристегивающимся воротничком, ни скрепить полы между ногами, как учила меня мать. Должно быть, он оделся по-праздничному, чтобы отправиться на консультацию, возможно, на первую встречу с врачом, не умея больше терпеть. Так или иначе, но шляпа была котелок, и в хорошем состоянии. Я сказал: «Заберите обратно свою шляпу и отдайте мне мою. – И добавил: – Верните мне пальто». Они ответили, что шляпу и пальто сожгли вместе с остальной моей одеждой. Тогда я понял, что скоро все закончится, можно было так думать, то есть довольно скоро. Позже я попытался, правда, без особого успеха, обменять котелок на картуз или на фетровую шляпу, чтобы можно было натягивать поля на лицо. Я не мог ходить с непокрытой головой, принимая во внимание состояние моего черепа. Поначалу шляпа была мне мала, но потом я ее разносил. После долгих разговоров они дали мне галстук. Он был довольно симпатичный, но мне не понравился. Когда галстук наконец прибыл, я был слишком изможден, чтобы отсылать его обратно. Все же он мне пригодился. Он был синий, с нанесенными на поле звездочками. Что-то вроде этого. Я нехорошо себя чувствовал, но они мне сказали, что состояние мое удовлетворительное. Они не сказали явно, что состояние мое такое же, какое уготовано мне на все оставшееся время, но это подразумевалось. Я лежал вытянувшись на кровати, и потребовались три женщины, чтобы натянуть на меня брюки. Они, похоже, не проявили интереса к моим гениталиям, но в последних, по правде говоря, и не было ничего примечательного. Меня и самого они не слишком интересовали. Впрочем, женщины могли бы обронить хоть словечко. Когда они закончили, я поднялся и сам завершил туалет. Мне было сказано сесть на кровать и ожидать. Все постельное белье исчезло. Меня разозлило, что они не намеревались позволить мне ожидать в привычной для меня кровати. Напротив, они вынудили меня стоять на ногах, на холоде, в одежде, которая пропахла серой. Я сказал: «Вы могли бы позволить мне ожидать в кровати до последнего». Вошли мужчины в рабочих блузах с молотками в руках. Они разобрали кровать и части унесли. Одна из женщин последовала за ними и вернулась со стулом, который поставила передо мной. Здо́рово я разыграл негодование. Но чтобы еще нагляднее показать им, насколько я зол на них за то, что они не дали мне остаться в кровати, я пинком отправил стул в полет. Вошел мужчина и знаком велел мне следовать за ним. В фойе он протянул мне на подпись бумагу.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.


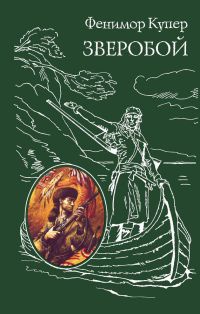
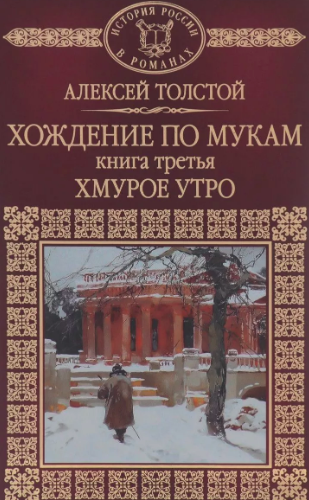
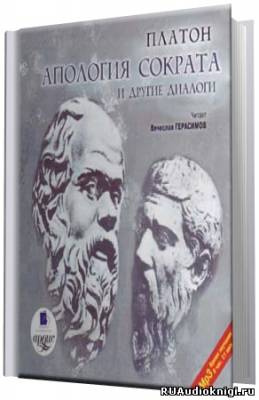
Комментарии