У Германтов - Марсель Пруст Страница 31
У Германтов - Марсель Пруст читать онлайн бесплатно
– Все люди, увлеченные одной идеей, одинаковы, – проговорил он с вызовом. Вне всякого сомнения, он совершенно забыл то, что это я ему говорил несколько дней назад, но зато самую мысль запомнил отлично.
Я приходил в ресторан Сен-Лу не всегда в одинаковом настроении. Иные воспоминания, иные горести оставляют нас в покое, и мы уже их не замечаем, но потом они все-таки возвращаются и иногда не расстаются с нами долго. В иные вечера, направляясь к ресторану, я так тосковал по герцогине Германтской, что мне становилось трудно дышать: у меня было такое чувство, словно часть моей грудной клетки вырезана искусным анатомом, удалена и заполнена равной частью невещественного страдания, эквивалентом томления и любви. Как бы хорошо ни были наложены швы, нам больно, когда внутренние органы заменяет тоска по ком-нибудь, кажется, что она занимает больше места, чем они, мы все время ее чувствуем, да и сознавать часть своего тела – какое это мучительное раздвоение! А ведь как будто бы мы способны на большее. При малейшем дуновении ветра мы тяжело переводим дух не только оттого, что нам тесно стало в груди, но и оттого, что мы изнываем. Я смотрел на небо. Если небо было чистое, я думал: «Может быть, она в деревне и тоже смотрит на звезды». И – как знать? – когда я приду в ресторан, не скажет ли мне Робер: «Приятная новость: тетя пишет, что соскучилась по тебе и собирается приехать сюда»? Не только с небосводом связывал я мысль о герцогине Германтской. Легкий ветерок, казалось, приносил мне весть о ней, как прежде о Жильберте среди хлебов Мезеглиза: сами мы не меняемся, мы наполняем наше чувство множеством частиц, до времени спавших, им пробужденных, но ему чуждых. А кроме того, что-то такое внутри нас силится поднять наши личные чувства на высоту чего-то более истинного, иначе говоря – присоединить их к более общему чувству, свойственному всему человечеству, – таким образом, те люди и те муки, какие мы из-за них терпим, – это только средства приобщения к чувству общечеловеческому. Сознание, что моя мука есть крохотная частица любви вселенской, придавало ей нечто отрадное. Разумеется, из того, что я, как мне это рисовалось, узнавал душевную боль, какую мне причиняла Жильберта, или ту, что я ощущал вечерами в Комбре, когда мама от меня уходила, а также то, что мне запомнилось из Бергота, в нынешних моих страданиях, с которыми герцогиня Германтская, ее холодность, то, что она сейчас от меня далеко, не были так тесно связаны, как причина со следствием в голове ученого, я не делал вывода, что причина – в герцогине Германтской. Физическая боль распространяется путем иррадиации и захватывает области, смежные с больной, но как только врач нащупает болевую точку, боль отпускает, а затем проходит окончательно. И все же, перед тем как пройти боли, ее протяжение придавало ей в нашем сознании нечто до того неопределенное и неизбежное, что, не в состоянии объяснить ее и даже локализовать, мы считали, что избавиться от нее невозможно. Идя в ресторан, я думал: «Я две недели не видел герцогиню Германтскую». Две недели могли казаться громадным сроком только мне: когда дело касалось герцогини Германтской, я отсчитывал минуты. Для меня не только в звездах и ветре, но и в арифметических делениях времени было что-то мучительное и поэтическое. Каждый день был теперь как движущаяся вершина зыбкого холма: я чувствовал, что по одному его склону я мог спуститься в забвение, вверх по другому меня увлекала потребность снова увидеть герцогиню. И, лишенный устойчивого равновесия, я перекатывался со склона на склон. Как-то раз я сказал себе: «Может быть, сегодня будет письмо» – и, придя ужинать, отважился спросить Сен-Лу:
– Из Парижа не было новостей?
– Были, – с мрачным видом ответил он, – неприятные.
Поняв, что есть от чего горевать только ему и что новости касаются его любовницы, я облегченно вздохнул. Но мне скоро стало ясно, что одним из следствий этих новостей явится то, что Робер долго не сможет пойти со мной к тетке.
Я узнал, что он и его любовница поссорились – то ли в письмах, то ли когда она приезжала к нему от поезда до поезда. А если между ними возникали ссоры, даже менее крупные, то ему казалось, что они рассорились навсегда. Она злилась, топала ногами, плакала по таким же непонятным причинам, по каким дети запираются в чулане, не идут обедать, не желают объяснить, что с ними, а когда, видя, что уговоры не действуют, их шлепают, они плачут навзрыд.
Сен-Лу тяжело переживал размолвку, но употребить это выражение – значит упростить и исказить представление о том, как он страдал. Вскоре после того как он остался один на один с мыслями о своей любовнице, которая уехала, проникшись к нему уважением оттого, что он проявил твердость характера, его тоску рассеяло ощущение непоправимости, а когда тоска проходит, это бывает так приятно, что размолвка, представлявшаяся ему разрывом, приобрела для него частицу той отрады, какую заключает в себе примирение. Более поздние его страдания представляли собой уже вторичные муки и вспышки, неиссякаемым источником которых был он сам, все время думавший, что, может быть, она хотела бы помириться, что вполне вероятно, что она ждет от него только одного слова, что, не дождавшись, она в отместку там-то и в такой-то вечер может наделать Бог знает чего, а чтобы ее удержать, ему стоит только телеграфировать о своем приезде, что он упускает время, а другие этим воспользуются, что еще несколько дней – и будет уже поздно, потому что она уйдет к другому. Все это он мог только предполагать, молчание любовницы сводило его с ума, и он уже начал подозревать, не скрывается ли она в Донсьере, не уехала ли в Индию.
Говорят, что молчание – сила; если ее могут применить те, кого мы любим, то это страшная сила. От нее растет тревога ожидающего. Ничто так не тянет к человеку, как то, что нас с ним разделяет, а существует ли менее преодолимая преграда, чем молчание? Говорят также, что молчание – пытка и что оно способно довести до безумия тех, кто обречен на молчание в тюрьмах. Но какая пытка – еще более жестокая, чем молчать самому, – терпеть молчание любимого человека! Робер задавал себе вопрос: «Что с ней, почему же она молчит? Значит, она мне изменяет?» А еще он говорил себе: «Что же я сделал, за что она наказывает меня таким упорным молчанием? Наверно, она меня возненавидела, и это уже конец». И он винил себя. Молчание в самом деле доводило его до безумия – доводило ревностью и угрызениями совести. Ведь такого рода молчание, страшнее молчания тюремного, есть тоже тюрьма. Промежуточный слой пустоты, через который не проходят лучи взгляда, вперяемого покинутым, – это стена, невещественная, разумеется, но непробиваемая. Нет более ужасного освещения, чем молчание, ибо оно показывает не одну отсутствующую, а великое множество, и каждая изменяет по-своему. Временами, в течение краткой передышки, Роберу казалось, что молчание вот-вот нарушится, что придет долгожданное письмо. Он видел его, оно приближалось, он сторожил каждый шорох, он успокаивался, он лепетал: «Письмо! Письмо!» Еще мгновение – и воображаемого оазиса нежности, который он прозревал, уже не было, и он снова еле передвигал ноги в осязаемой пустыне беспредельного молчания.
Он заранее мучился, не уклоняясь ни от одного, всеми мучениями разрыва, а иногда ему казалось, что разрыва можно избежать, – так мысли людей, приводящих свои дела в порядок перед переселением, каковое не произойдет, мысли, не знающие, на чем они остановятся завтра, некоторое время мечутся, оторвавшись от людей, подобно сердцу, все еще бьющемуся, даже если его отделят от тела. Как бы то ни было, благодаря надежде, что любовница вернется, он стойко выдерживал разрыв, – так вера в то, что можно выйти живым из боя, помогает бесстрашно встретить лицом к лицу смерть. А поскольку привычка из всех живущих в человеке растений меньше других нуждается в питательной среде для того, чтобы жить, и прежде других появляется на скале, с виду совершенно голой, то, может быть, вначале играя в разрыв, он кончил бы тем, что взаправду свыкся бы с ним. Но неизвестность подогревала в нем связанное с воспоминаниями об этой женщине чувство, похожее на любовь. Тем не менее он делал над собой усилия, чтобы не писать ей, быть может, полагая, что в известных обстоятельствах жить без любовницы легче, чем вместе с ней, и что она рассталась с ним так, что после этого обязана попросить у него прощения, иначе у нее не останется к нему не только нежного чувства, но и почтения и уважения. Он ограничивался тем, что ходил на телефон, который недавно провели в Донсьере, и расспрашивал или наставлял горничную, которую он сам нанял для своей подружки. Переговоры эти были, однако, затруднительны и отнимали у него массу времени, так как, наслушавшись своих друзей-литераторов, ругавших столицу, а главное, ради своих животных и птиц – собак, обезьяны, канареек и попугая, – надоевших хозяину парижского ее дома лаем, пением и криками, любовница Робера недавно сняла в окрестностях Версаля небольшое имение. Робера мучила бессонница. Как-то, когда он был у меня, сон его одолел. Вдруг он заговорил во сне – заговорил о том, что ему надо куда-то бежать, чему-то помешать, несколько раз повторил: «Я все слышу, вы не… вы не…» И проснулся. Он сказал, что ему приснилось, будто он в деревне у обер-вахмистра. Вахмистр не впускал его в какую-то комнату. Сен-Лу догадался, что вахмистр скрывает у себя очень богатого и очень развратного лейтенанта, который, насколько Сен-Лу было известно, жаждет близости с его подружкой. И вдруг он ясно услышал во сне повторявшиеся через определенные промежутки времени прерывистые вскрики, вырывавшиеся из груди его любовницы в минуты особенно острых наслаждений. Сен-Лу хотел ворваться в эту комнату. Но вахмистр не пускал его, и вид у него был при этом такой возмущенный наглостью Робера, что Робер, как он говорил, теперь уже никогда его не забудет.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.



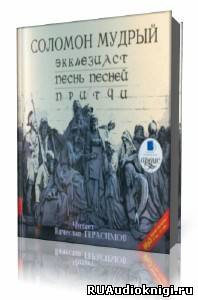
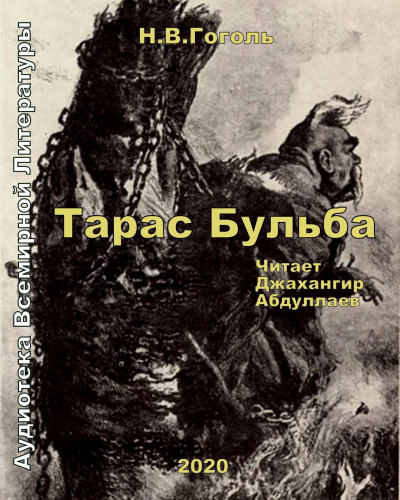
Комментарии