Миссис Дэллоуэй. На маяк. Орландо. Романы - Вирджиния Вульф Страница 27
Миссис Дэллоуэй. На маяк. Орландо. Романы - Вирджиния Вульф читать онлайн бесплатно
Септимус в числе первых записался добровольцем. Он отправился во Францию защищать Англию, сводимую почти безраздельно к Шекспиру и бредущей в зеленом платье по бульвару мисс Изабел Поул. Там, в окопах, мигом исполнились пожелания мистера Брюера, рекомендовавшего футбол и перемену обстановки. Септимус возмужал; получил повышение; снискал внимание, даже дружбу своего офицера по имени Эванс. Это была дружба двух псов у камелька: один гоняет бумажный фунтик, огрызается, скалится и нет-нет да и тяпнет приятеля за ухо, а тот лежит, старичок, сонно, блаженно, мигает на огонь, слегка шевелит лапой и урчит добродушно. Им хотелось бывать вместе, изливаться друг другу, спорить и ссориться. Но когда Эванс (крепкий, рыжий, скромный с женщинами, Реция видела его всего раз, и она говорила про него: «Такой тихий»), когда Эванс был убит, перед самым перемирием, в Италии, Септимус не стал горько сетовать и тужить по прерванной дружбе и поздравил себя с тем, что так разумно отнесся к известию и почти ничего не чувствует. Война кой-чему научила его. Вот и роскошно. Он всего понавидался, хлебнул достаточно – война, дружба, смерть, – получил повышение, ему нет тридцати, умирать еще рановато, по-видимому. Тут он не ошибся. Последние снаряды не попадали в него. С совершенным безразличием он следил, как они разрываются. Заключение мира застало его в Милане, на постое у хозяйки гостиницы, в доме, где был внутренний дворик, цветы в кадках, столики под открытым небом, дочки – шляпные мастерицы и Лукреция, младшая, к которой он посватался как-то вечером, когда на него накатил ужас из-за того, что он не способен чувствовать.
Война кончилась, подписали мир и закопали мертвых, а на него, особенно вечером, часто накатывал нестерпимый страх. Он не способен чувствовать. Открывая дверь комнаты, где итальяночки делали шляпки, он видел их; он слышал их; они натачивали проволочки среди цветных бусинок, разложенных на поддонах; они так и сяк вертели коленкор; стол был завален перьями, стеклярусом, нитками, лентами; порхали и щелкали ножницы над столом; но чего-то не хватало Септимусу; он ничего не чувствовал. Однако же смех девушек, щелканье ножниц, изготовление шляпок его завораживали; он чувствовал себя в безопасности; у него было прибежище. Но не мог же он тут оставаться ночь напролет. Он просыпался ни свет ни заря. Кровать проваливалась куда-то; сам он проваливался. Ох, где вы – щелканье ножниц, лампа и коленкор! Он предложил руку и сердце Лукреции, младшей, веселой, бездумной. У нее были тонкие пальчики мастерицы, она показывала их ему, говорила: «Здесь у меня – все». Шелк, перья, что хотите – в этих пальчиках все оживало.
– Самое первое дело – шляпка, – говорила она, когда они вместе гуляли по улицам. Она смотрела на каждую встречную шляпку; и на плащ, и на платье, и на то, как держится женщина. Нерях и разряженных она клеймила, раздраженно отмахиваясь от них, как художник отмахивается от заведомой, кричащей, наивной подделки; великодушно, не без критических замечаний встречала какую-нибудь продавщицу, повязавшую нарядно простую косынку, и восторженно, с робким почтением знатока, обмирала при виде богатой француженки, выходящей из экипажа в шелках, шеншилях, жемчугах.
– Красиво! – шептала она и подталкивала локотком Септимуса. Но красота была под матовым стеклом. Даже вкусные вещи (Реция обожала шоколад, мороженое, конфеты) не доставляли ему удовольствия. Он ставил чашечку на мраморный столик. Смотрел в окно на прохожих; они толклись на мостовой, кричали, смеялись, легко перебранивались – им было весело. А он ничего не чувствовал. В кафе, среди столиков и болтовни официантов его охватывал тошный страх: он не способен чувствовать. Мыслить он мог – читать, например, Данте – совершенно свободно («Септимус, да оставь же ты свою книжку», – говорила Реция, ласково закрывая «Inferno» [2]); он умел проверять счета; мозг работал исправно, – значит, в мире есть что-то такое, раз он не способен чувствовать.
– Англичане ужасно молчаливые, – говорила Реция. Ей, она говорила, это даже приятно. Она уважала англичан, она мечтала увидеть Лондон, и английских лошадей, и английские костюмы, и там магазины такие, ей еще тетя рассказывала, которая вышла замуж и уехала жить в Сохо.
Очень возможно, думал Септимус, глядя на Англию из окна поезда, когда они ехали из Ньюхейвена, очень возможно, что мир вообще бессмыслен.
На службе ему сразу дали весьма ответственную должность. Им гордились. Он отличился на войне.
– Вы исполнили свой долг; теперь уж нам… – начал мистер Брюер; и он не мог кончить фразу, настолько отрадные на него нахлынули чувства. Молодые заняли уютную квартирку на Тоттнем-Корт-Роуд.
Здесь он снова раскрыл Шекспира. Мальчишество, обморочное опьянение словами – «Антоний и Клеопатра» – безвозвратно прошло. Как ненавидел Шекспир человечество, которое наряжается, плодит детей, оскверняет уста и чрево! Наконец-то Септимус понял, что скрыто за прелестью слов. Тайный сигнал, передаваемый из рода в род, – ненависть, отвращение, отчаяние. Таков и Данте. Таков же (в переводе) Эсхил. А Реция сидела у стола и делала шляпки. Она делала шляпки для приятельниц миссис Филмер; делала их часами. Бледная, загадочная, как лилия, как лилия под водой, думал он.
– Англичане ужасно серьезные, – говорила она, обнимая Септимуса, прижимаясь щекою к его щеке.
Любовь мужчины и женщины внушала омерзение Шекспиру. Совокупление ему под конец казалось развратом. А Реция говорила, что ей хочется ребеночка. Они уже пять лет как поженились.
Они вместе ходили в Тауэр; в Музей Виктории и Альберта; ждали в толпе, когда король откроет парламент. И были еще магазины; шляпные магазины, магазины одежды, магазины, где в витринах стояли кожаные сумочки, и на них засматривалась Реция. Но ей хотелось мальчика.
Ей хотелось сына, в точности как Септимус. Только не бывает как Септимус; он такой ласковый и серьезный, такой умный. Может, и ей почитать Шекспира? Он трудный? – спрашивала она.
Нельзя обрекать детей на жизнь в этом мире. Нельзя вековечить страдания и плодить похотливых животных, у которых нет прочных чувств, одни лишь порывы, причуды, швыряющие их по волнам.
Он следил, как она щелкает ножницами, кроит. Так следят за птичкой в траве, боясь шелохнуться. Потому что на самом-то деле (только б она не узнала) люди заботятся лишь о наслаждении минутой, а на большее нет у них ни души, ни веры, ни доброты. Они охотятся стаями. Стаи рыщут по пустырям и с воем несутся в пустыни. И бросают погибших. На них маски, маски лгут. На службе – Брюер с нафабренными усами, коралловой булавкой, с белым галстуком и отрадными чувствами, а внутри холодный и липкий – герани у него погибли из-за войны, у кухарки расстроены нервы; или эта Берта, как бишь ее фамилия; ровно в пять разносит в чашечках чай, и косится, и скалится – ведьма; а сотруднички в крахмальных манишках, жирно лоснящихся пороком; посмотрели бы, как он их, поймав с поличным, разделывает с натуры в блокноте. По улице мимо него грохочут фургоны; жестокость вопит с плакатов; мужчин подрывают на минах, женщин сжигают заживо; а как-то шеренгу увечных безумцев вели не то погулять, не то напоказ народу (народ хохотал до слез), и они, кивая и скалясь, ковыляли по Тоттнем-Корт-Роуд, и каждый чуть-чуть виновато, но с торжеством демонстрировал свои муки. Самому бы не спятить…
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

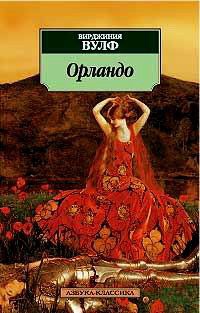
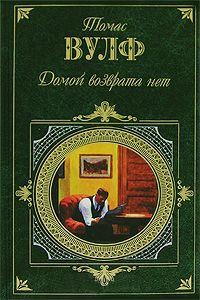


Комментарии