Конец одного романа - Грэм Грин Страница 22
Конец одного романа - Грэм Грин читать онлайн бесплатно
— Подумайте, сейчас молятся тысячи, и ничего не получают.
— Тысячи умирали, когда Лазарь [21]…
— Мы же не верим этой басне? — сказал он, словно мы сообщники.
— Нет, конечно, но очень многие верят. Им кажется разумным…
— Они не ждут разумности, если их что-то тронуло. Ведь влюбленные неразумны.
— Вы и любовь можете так объяснить? — спросила я.
— Как же! — сказал он — У одних это — вроде жадности, хотят чем-то владеть. Другие хотят подчиниться, снять с себя ответственность. Третьи жаждут восхищения. Многим нужно выговориться кому-то, кто не заскучает. Многим недостает матери или отца. Ну и, конечно, биологические мотивы.
«Все так, — думала я, — но неужели ничего больше нет?» Я копнула себя, Мориса, но лопата не ударилась о камень. И я спросила:
— А любовь к Богу?
— То же самое. Человек создал Бога по своему подобию, так что естественно его любить. Вы видели кривое зеркало? Мы создали зеркало, в котором видим себя хорошими, сильными, справедливыми, мудрыми. Так мы думаем о себе. Так легче себя узнать, легче себя любить.
Когда он говорил про зеркала, я забыла свой вопрос, я думала только о том, сколько раз, с самого детства, смотрел он в зеркало и хотел выглядеть в нем получше. Я думала, почему он не отрастил бороду — волосы там не растут или он ненавидит обман? Наверное, он и впрямь любит правду… вот, опять «любит», а ведь яснее ясного, как объяснить эту любовь. Хочет возместить свою беду, хочет властвовать, хочет, чтобы им восхищались, особенно потому, что его бедное лицо никого не привлечет. Мне страшно захотелось тронуть эту щеку, приласкать, утешить. Все было как тогда, когда Морис лежал мертвый. Вот бы и теперь помолиться, предложить очень большую жертву; только бы он вылечился — но мне жертвовать нечем.
— Дорогая моя, — сказал он, — Бог тут ни при чем, вы поверьте. Все дело в муже и любовнике. Не путайте живых людей с призраками.
— Как же мне решить, — спросила я, — если любви тоже нету?
— В счастье вы верите?
— Я не верю в отвлеченные понятия.
«Вот его единственное счастье, — думала я. — Думать, что он утешит, поможет, посоветует, что он кому-то нужен. Из-за этого он каждую неделю идет туда, к нам, говорит, его не слушают, не спрашивают, бросают карточки на газон. Часто ли кто-нибудь приходит, как я вот пришла?» И я спросила:
— К вам часто приходят?
— Нет, — сказал он. Любовь к правде была сильнее гордости. — Вы первая… за долгое время.
— Мне вы очень помогли, — сказала я. — Все стало гораздо яснее.
Больше я никак не могла его утешить. Он робко сказал:
— Если у вас есть время, мы бы начали сначала и дошли до самой сути. Я имею в виду философские доводы, исторические свидетельства.
Наверное, я что-то ответила, вроде «нет», потому что он стал настаивать:
— Это очень важно. Нельзя презирать врагов. У них тоже есть доводы.
— Есть и у них?
— Неразумные. Ну, разумные на первый взгляд. Обманчивые.
Он испуганно смотрел на меня. Он думал, наверное, не из тех ли я, кто уходит, и нервно сказал:
— Часок в неделю. Это вам очень поможет, — а я подумала: «Я же теперь совершенно свободна. Могу пойти в кино, могу взять книгу, только я не читаю и не помню фильмов. Я слепа и глуха от горя. Сегодня я ненадолго забыла и горе, и себя».
— Да, приду. Спасибо, что уделили мне время, — сказала я, отдавая ему всю надежду, моля Бога, от которого он обещал меня вылечить: «Дай мне ему помочь!»
2 октября 1945
Сегодня было очень жарко, накрапывал дождь, и я зашла в темную церковь на углу Парк-роуд, немножко посидеть. Генри был дома, я не хотела его видеть. Я стараюсь быть доброй за завтраком, и за обедом, если он дома, а иногда я все-таки забываю, он один добрый. Двое должны не обижать друг друга всю жизнь… Когда я вошла и присела, и огляделась, я увидела, что церковь — католическая, всюду эти жуткие статуи, реалистические какие-то. Я просто смотреть не могла и на них, и на распятие, опять человеческое тело, а я хочу бежать от него и от всего, что ему нужно. Я думала, что могла бы поверить в такого Бога, который никак с нами не связан, расплывчатого, неопределенного, космического, — я Ему что-то обещала, Он дал мне что-то взамен, словно пар ворвался на минуту в нашу жизнь, в наши комнаты, где стоят столы и стулья. Когда-нибудь и я стану таким вот паром, уйду в него от себя. А тут, в темной церкви на Парк-роуд, столько всяких дел, на всех алтарях — жуткие гипсовые статуи со сладкими лицами, и я вспомнила, что христиане верят в воскресение плоти, той плоти, которую я хотела навеки уничтожить. Я столько портила ее, как же мне хотеть, чтобы она сохранилась в вечности, — и тут я вспомнила слова Ричарда о том, что мы выдумываем доктрины, чтоб удовлетворить свои желания, и удивилась, насколько же он неправ. Если бы доктрину выдумывала я, я бы выдумала, что тело не воскреснет, что оно сгниет, как прошлогодняя падаль. Странно, как наш ум качается туда-сюда, от крайности к крайности. Может быть, истина в какой-то точке, через которую маятник пролетает, — не там, где он уныло висит, как флаг без ветра, а к краю поближе? Если бы маятник чудом остановился под углом в 60 градусов, я бы поверила, что истина — здесь. Сегодня маятник не останавливался, и я думала о теле Мориса, не о своем. Я думала о морщинках, которые жизнь прорезала на его лице, таких же неповторимых, как его почерк. Думала о шраме на плече, которого бы не было, если бы он не защитил другое тело от падающей стены. Он не говорил мне, почему лежал три дня в больнице, Генри сказал. Этот шрам — часть его характера, как ревность. Я подумала: хочу я, чтобы это тело обратилось в пар? (мое — да, конечно, а это?) — и поняла, что шрам должен быть всю вечность. Хорошо, а мой пар сможет его любить? Тут я стала жалеть и свое тело, но только за то, что оно может любить шрам. Неужели любит душа, — и все, ничто больше? Любовь — всегда и везде, даже ногти любят, даже платье, одежда, один рукав чувствует другой.
«Ричард прав, — подумала я, — мы выдумали воскресение, потому что тела нам нужны», — и как только я решила, что это сказка, которой мы друг друга утешали, статуи совершенно перестали меня раздражать. Они были как плохие картинки к Андерсену, как плохие стихи, кому-то ведь надо их писать, и он не так горд, чтобы их прятать. Я обошла церковь, разглядывая их. Перед самой ужасной — не знаю, кто же это, — молился пожилой человек. Рядом стояла шляпа, а в ней лежал сельдерей, завернутый в газету.
Конечно, было оно и над алтарем, такое знакомое. Я знала его лучше, чем тело Мориса, но никогда не думала, что это ведь — тело, у него есть все, даже то, что прикрыто. Я вспомнила распятие в одной испанской церкви, мы там были с Генри. Красная краска шла от глаз и от рук, меня затошнило. Генри хотел, чтобы я восхитилась колоннами XII века, но меня тошнило, я вышла поскорей на воздух. Я думала: «Как они любят жестокость!» Пар не испугает кровью и криками.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
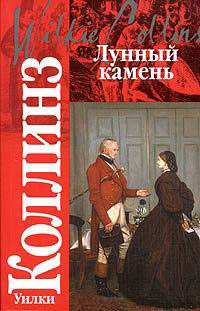



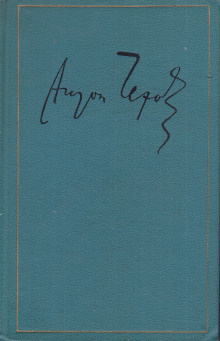
Комментарии