По направлению к Свану - Марсель Пруст Страница 16
По направлению к Свану - Марсель Пруст читать онлайн бесплатно
Мама не пришла и, не щадя моего самолюбия (заинтересованного в том, чтобы выдумка насчет поисков, о результате которых она якобы просила меня сообщить ей, не была разоблачена), велела Франсуазе передать мне: «Ответа не будет», — слова, которые потом так часто говорили при мне бедным девушкам швейцары в «шикарных» гостиницах или лакеи в игорных домах. «Как! Он ничего не сказал? — переспрашивали те в изумлении. — Не может быть! Ведь вы же ему передали мое письмо. Ну, хорошо, я подожду». И, уподобясь одной из таких девушек, неизменно уверяющей швейцара, что дополнительный газовый рожок, который тот хочет зажечь для нее, ей не нужен, остающейся ждать и слышащей лишь, как швейцар и посыльный время от времени переговариваются о погоде и как швейцар, вдруг заметив, что указанный одним из постояльцев срок наступил, велит посыльному поставить напиток в ведро со льдом, — я, отвергнув предложение Франсуазы сделать мне настойку и побыть со мной, отослал ее в буфетную, а сам лег и закрыл глаза, стараясь не прислушиваться к голосам родных, пивших в саду кофе. Но через несколько секунд я почувствовал, что, написав записку маме, я, рискуя рассердить ее, настолько приблизился к ней, что как будто бы осязаю миг ее появления и тем лишаю себя возможности заснуть, не увидевшись с ней, и сердце мое с каждым мгновеньем билось все больнее, потому что, уговаривая себя успокоиться и покориться моей горькой участи, я только усиливал свое возбуждение. Вдруг тоска прошла и сменилась блаженством, как будто начало действовать сильное болеутоляющее средство: я решил даже не пытаться заснуть, не повидавшись с мамой, и во что бы то ни стало поцеловать ее, когда она будет подниматься к себе в спальню, хотя бы она долго после этого на меня сердилась. Конец мукам, ожидание, жажда и боязнь опасности — все это наполнило мою душу необыкновенным восторгом. Я бесшумно отворил окно и сел у изножья кровати; чтобы меня не услышали внизу, я сидел почти неподвижно. За окном все предметы тоже как бы застыли в напряженном молчании, боясь потревожить лунный свет, а свет, растягивая перед каждым предметом его тень, более плотную и определенную, чем сам предмет, увеличивал его вдвое и отодвигал, а весь вид в целом утончал и в то же время разворачивал, как разворачивают свернутый чертеж. Что испытывало потребность в движении, — например, листва каштана, — то шевелилось. Но всю ее охвативший трепет, тщательно отшлифованный, с соблюдением малейших оттенков, доведенный до возможной степени совершенства, не добрызгивался до окружающего, не сливался с ним, оставался обособленным. Дальние звуки, выделявшиеся на фоне тишины, которая их не поглощала, и долетавшие, по всей вероятности, из садов, раскинувшихся на другом конце городка, воспринимались до такой степени «отделанными» в каждом своем полутоне, что казалось, будто впечатление дальности зависит только от их пианиссимо, вроде тех мотивов, которые так мастерски исполняет под сурдинку оркестр консерватории: ни одна нота не пропадет, а у слушателей создается впечатление, что они звучат где-то далеко от концертного зала, и старые абоненты, — в частности, бабушкины сестры, когда Сван уступал им свои места, — наставляли уши, словно прислушиваясь к далеким шагам марширующих солдат, еще не свернувших на улицу Тревизы.
Зная моих родителей, я отдавал себе отчет, что моя затея может иметь для меня самые тяжкие последствия, куда более тяжелые, чем мог бы ожидать человек посторонний, — такие, которые, по его понятиям, могло бы повлечь за собой только что-нибудь действительно скверное. При том воспитании, которое я получал, степень важности поступков определялась по-иному, чем у других детей: меня приучали зачислять в разряд самых больших провинностей (наверное, потому, что меня надо было особенно тщательно оберегать от них) те, которые, как это мне стало ясно только теперь, мы обыкновенно совершаем под влиянием нервного возбуждения. Но тогда это выражение при мне не употреблялось, мне не указывали на происхождение подобного рода поступков, а то я мог бы сделать вывод, что это простительно или что справиться с этим мне не по силам. Однако я легко отличал эти проступки по тоске, которая им предшествовала, и по строгости следовавшего за ними наказания; и сейчас я сознавал, что проступок, который я совершил, принадлежит к разряду тех, за которые меня постигала суровая кара, но только гораздо более важный. Если я выйду навстречу матери, когда она будет подниматься к себе в спальню, и она увидит, что я встал, чтобы еще раз пожелать ей спокойной ночи в коридоре, меня больше дома не оставят, меня завтра же отправят в коллеж — я был в этом уверен. Ну что ж! Если бы даже я должен был через пять минут выброситься в окно, меня бы и это не удержало. У меня было одно желание: увидеть маму, пожелать ей спокойной ночи, я слишком далеко зашел в этом своем стремлении — отступать было поздно.
Я услыхал шаги моих родных, провожавших Свана. И едва колокольчик у калитки дал мне знать, что Сван ушел, я пробрался к окну. Мама спрашивала отца, хорош ли был лангуст и просил ли Сван подложить ему кофейного и фисташкового мороженого. «Мне оно не очень понравилось, — заметила мать. — В следующий раз надо будет сделать какое-нибудь другое». — «А как изменился Сван! — воскликнула моя двоюродная бабушка. — Он совсем старик!» Сван ей все казался юнцом, и вдруг она с удивлением обнаружила, что он далеко не так молод. Впрочем, все мои родные отметили ненормальную, раннюю, постыдную старость Свана и считали, что он ее заслужил, как все холостяки, для которых длинное «сегодня», не имеющее своего «завтра», тянется дольше, чем для других, потому что у них оно ничем не заполнено, мгновения с утра присчитываются одно к другому, не распределяясь между детьми. «Наверно, ему много крови попортила его мерзавка жена: ведь она на глазах у всего Комбре живет с каким-то Шарлю. Это притча во языцех». Мать возразила, что за последнее время Сван явно повеселел: «И теперь он не так часто протирает глаза и проводит рукой по лбу — это был характерный жест его отца. Мне думается, он разлюбил жену». — «Конечно, разлюбил, — подхватил дедушка. — Я уже давно получил от него письмо по этому поводу — тогда я не придал ему особого значения, но оно не оставляет никаких сомнений относительно его чувств к жене, во всяком случае — его любви к ней. Да, ну, а почему же вы все-таки не поблагодарили его за асти?» — обратился дедушка к свояченицам. «Как так не поблагодарили? Если уж на то пошло, я, по-моему, сделала это достаточно тонко», — возразила бабушка Флора. «Да, у тебя это очень хорошо вышло: я тобой восхищалась», — заметила бабушка Седина. «Ты тоже не сплоховала». — «Да, я горжусь своей фразой насчет любезных соседей». — «То есть как? Это вы называете поблагодарить? — вскричал дедушка. — Я все прекрасно слышал, но разрази меня Господь, если я сообразил, что это относилось к Свану. Можете быть уверены, что он ничего не понял». — «Ну уж нет, Сван не так глуп, я убеждена, что он догадался. Не могла же я сказать, сколько бутылок и почем они!»
Оставшись вдвоем, отец и мать посидели немного, потом отец сказала: «Ну что ж, если хочешь — пойдем спать». — «Это если ты хочешь, мой друг, — у меня сна ни в одном глазу нет; впрочем, я не думаю, чтобы безвредное кофейное мороженое так меня возбудило. А в буфетной горит свет; ну, раз милая Франсуаза все равно меня ждет, я попрошу ее, пока ты будешь раздеваться, расстегнуть мне корсаж». И тут мама отворила решетчатую дверь из передней на лестницу. Вскоре я услышал, как она поднимается, чтобы закрыть у себя в комнате окно. Я проскользнул в коридор; сердце мое билось так сильно, что я еле шел, но теперь оно билось уже не от тоски, а от радости и от страха. Я увидел свечу, освещавшую лестничную клетку. Потом я увидел маму; я бросился к ней. В первую секунду она, не поняв, в чем дело, посмотрела на меня с изумлением. Затем на ее лице изобразился гнев; она не сказала мне ни единого слова; впрочем, со мной не разговаривали по нескольку дней из-за сущей безделицы. Если б мама сказала мне хотя бы одно слово, то это означало бы, что со мной можно говорить, и, пожалуй, это было бы для меня еще страшнее: я бы вообразил, что, в сравнении с ожидающим меня грозным возмездием, молчание, разрыв — пустяки. Слово было бы равнозначно спокойному тону, каким говорят со слугой, которого решено рассчитать, или поцелую, который дарят сыну, призванному на военную службу, и которого при других обстоятельствах ему бы не дали, так как был уговор наложить на него двухдневную опалу. Но тут мама услыхала шаги отца, вышедшего из туалетной, где он раздевался, и, чтобы избежать сцены, которую он устроил бы мне, прерывающимся от возмущения голосом сказал: «Беги! Беги! Не хватает еще, чтобы отец увидел, что ты тут торчишь, как дурак!» — «Приходи со мной попрощаться», — лепетал я, страшась отблеска отцовской свечи, кравшегося вверх по стене, и в то же время пользуясь его приближением как средством шантажа в надежде, что мама, боясь, как бы отец не застал меня здесь, если она будет упорствовать, скажет: «Иди к себе в комнату, я сейчас приду». Но было поздно: перед нами стоял отец. У меня невольно вырвалось — впрочем, так тихо, что никто моих слов не расслышал: «Я погиб!».
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.


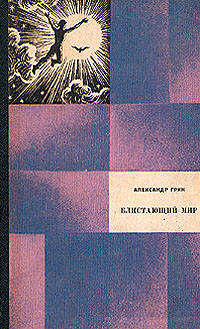
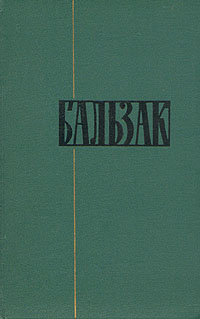

Комментарии