Первая любовь - Сэмюэль Беккет
- Доступен ознакомительный фрагмент
- Категория: Книги / Классика
- Автор: Сэмюэль Беккет
- Страниц: 26
- Добавлено: 2019-05-13 22:34:27
- Купить книгу
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту egorovyashnikov@yandex.ru для удаления материала
Первая любовь - Сэмюэль Беккет краткое содержание
Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Первая любовь - Сэмюэль Беккет» бесплатно полную версию:В сборник франкоязычной прозы нобелевского лауреата Сэмюэля Беккета вошли произведения, созданные на протяжении тридцати с лишним лет. На пасмурном небосводе беккетовской прозы вспыхивают кометы парадоксов и горького юмора. Еще в тридцатые годы писатель, восхищавшийся Бетховеном, задался вопросом, возможно ли прорвать словесную ткань подобно \"звуковой ткани Седьмой симфонии, разрываемой огромными паузами\", так чтобы \"страницу за страницей мы видели лишь ниточки звуков, протянутые в головокружительной вышине и соединяющие бездны молчания\". К середине века Беккету это удалось. Может быть, читатель, вопреки названию сборника, не обнаружит в нем рассказа о любви, но он наверняка откроет для себя что-то новое в свойствах молчания. На русском языке публикуется впервые.
Первая любовь - Сэмюэль Беккет читать онлайн бесплатно
Ознакомительный фрагмент
* * *
В потоке времени я связываю, по праву или ошибочно, свой брак со смертью отца. Не исключено, что между двумя этими событиями существуют и другие связи, в иных плоскостях. Мне и так достаточно тяжело рассказывать о том, что я будто бы знаю.
Недавно я посетил могилу отца, это я знаю точно, и запомнил дату его смерти, только смерти, так как дата его рождения не имела для меня значения, в тот именно день. Я отправился в путь утром и вернулся затемно, слегка перекусив на кладбище. Однако спустя несколько дней, желая узнать, в каком возрасте он умер, я вынужден был вернуться на кладбище, чтобы установить дату его рождения. Две эти предельные даты я записал на клочке бумаги и сохранил его при себе. Таким образом, я могу утверждать, с известной степенью уверенности, что ко времени моего супружества мне было около двадцати пяти лет. Ибо дату моего рождения, повторяю, моего собственного рождения, я никогда не забывал, мне никогда не приходилось ее записывать, она вычеканена в моей памяти, по крайней мере год, в цифрах, которые жизни непросто будет вытравить. Но также не забыт и день, если, конечно, я предпринимаю попытку его вспомнить, а я часто его праздную, по-своему, конечно, не скажу, что каждый год, нет, ведь он возвращается часто, увы, слишком часто.
Лично я ничего не имею против кладбищ, я прогуливаюсь по ним охотно, даже более охотно, чем в других местах, то есть в тех случаях, когда есть необходимость выйти наружу. Запах трупов, который я явственно ощущаю пробивающимся из-под дыхания травы и перегноя, не неприятен мне. Возможно, он чуть сладковат, чуть затуманивает голову, но насколько же он предпочтительнее, чем запахи живых, запах от их подмышек, ног, жоп, липкой крайней плоти и обманутых в ожиданиях яичников. А когда в дело вступают останки моего отца, сколь бы скромным ни был его вклад, на глаза мне едва не наворачиваются слезы. Живые могут мыться сколько им угодно, ну или душиться, все равно они смердят. Так что если говорить о прогулках, когда есть необходимость выйти, предоставьте мне кладбища, а сами ступайте гулять в общественных парках или в сельской местности. Свой сандвич или банан я с гораздо большим аппетитом поедаю сидя на могильном камне, а если меня охватит нужда помочиться, как это часто случается, то и тут у меня большой выбор. Или же я прогуливаюсь, заложив руки за спину, между надгробий, стоящих, плоских или покосившихся, и собираю эпитафии. Они меня никогда не подводят, эпитафии, всякий раз встретится несколько строк таких уморительных, что я вынужден схватиться за крест, или за стелу, или за ангела, чтобы не упасть. Что до своей собственной, я сочинил ее уже давно, и меня она всегда устраивала, вполне устраивала. Иные мои сочинения – не успеют чернила высохнуть, как они вызывают во мне отвращение, но вот эпитафия нравилась мне всегда. К сожалению, вероятность того, что эти строки когда-либо покинут череп, их породивший, крайне мала, если только за дело не возьмется государство. Однако прежде чем меня выкопать, им пришлось бы меня найти, а я опасаюсь, что государству найти меня мертвым будет не проще, чем живым. По этой причине я спешу запечатлеть эпитафию здесь, пока не слишком поздно:
Покойный
Так долго жизни избегал венца,
Что лишь теперь не избежал конца.
Здесь нелады с силлабикой, но это не имеет значения, мне так кажется. Мне и не такое простят, когда меня не станет. Или вот еще, если повезет, можно наткнуться на настоящие похороны со всеми приличествующими случаю обстоятельствами, как-то: живые в трауре, а иногда и вдова, готовая броситься в разверстую могилу, и почти всегда забавная сценка с горстью праха или пыли, хотя я всегда замечал, что пыли-то в этих ямах никакой нет, а есть почти всегда одна только жирная земля, да и покойный, говоря по правде, не слишком пылевиден, если только не сильно обгорел. Так или иначе, но она веселая, эта комедия с горстью праха. Но вот к отцовскому кладбищу я не питал особой привязанности. Оно находилось в отдалении, в совершенном захолустье, на склоне холма, и было слишком маленьким, чересчур маленьким. К тому же оно было почти заполнено, если можно так выразиться, еще несколько вдов, и места не останется совсем. Гораздо больше мне нравилось кладбище Олсдорф, особенно участок Линна, в прусских землях, четыреста гектаров теснящихся мертвецов и ни одного знакомого, то есть из них я не знал никого, кроме укротителя Хагенбека, да и того понаслышке. Помнится, на его надгробии выгравирован лев. Должно быть, Хагенбеку смерть явилась в облике льва. Взад и вперед ездят автомобили, набитые вдовцами, вдовами и сиротами. Рощицы, гроты, водоемы с лебедями несут утешение скорбящим. Дело было в декабре, я никогда так не мерз, суп из угря камнем лежал в желудке, я страшился смерти, мне пришлось остановиться и проблеваться, я им завидовал.
Однако перейдем к сюжету менее печальному: после смерти отца мне пришлось покинуть дом. Ему самому хотелось, чтобы я продолжал жить в доме. Он был странный человек. Однажды он сказал: «Оставьте его в покое, он никому не мешает». Он не знал, что я подслушиваю. Эту мысль он, вероятно, высказывал не раз, но в других случаях меня не было рядом. Они так и не показали мне его завещание, а только сказали, что он завещал мне известную сумму денег. Я думал тогда и думаю по-прежнему, что в завещании он просил, чтобы мне предоставили ту же комнату, которую я занимал при его жизни, и чтобы мне приносили поесть, как и прежде. Не могу исключать и того, что последнее условие он выставил в качестве обязательного. Наверное ему нравилось чувствовать мое присутствие в доме, а иначе он не стал бы выступать против того, чтобы меня выставили вон. Может быть, он просто жалел меня. Впрочем, не думаю. Ему следовало завещать мне весь дом, тогда мне было бы спокойно, да и другим тоже, ведь я бы сказал им: «Оставайтесь, вы же у себя дома!» Дом был огромный. Да, его обдурили на всю железку, моего бедного отца, если, конечно, в его намерения действительно входило защищать меня даже из могилы. Что касается денег, будем справедливы, деньги они отдали мне сразу, назавтра после похорон. Возможно, что поступить иначе они просто не могли. Я сказал им: «Оставьте эти деньги себе и позвольте мне жить здесь, в своей комнате, как при жизни папа́». Я добавил: «Упокой Господь его душу», – в надежде их растрогать. Но они отказались. Я предложил поступить в их услужение на несколько часов в день, для выполнения мелкой починки и ремонта, в котором нуждается всякий дом, чтобы не рассыпаться в прах. Изготовление поделок, вот еще одна возможность, предложил я им уж не знаю почему. В частности, я предложил им заняться теплицей. Там я охотно проводил бы три или четыре часа в день, в оранжерейном тепле, ухаживая за томатами, гвоздиками, гиацинтами и другими растениями. В этом доме никто, кроме меня и отца, не разбирался в томатах. Но они отказались. Однажды, возвращаясь из уборной, я обнаружил, что дверь в мою комнату заперта на ключ, а мои вещи свалены в кучу перед дверью. Любопытно, способны ли вы понять, насколько жестокие о ту пору у меня случались запоры. Думаю, что запоры были следствием тревоги. Но были ли то действительно запоры? Не думаю. Тише, тише. Все же весьма вероятно, что я страдал от констипации, а иначе как объяснить эти долгие, эти жестокие сеансы в ватерклозете? Я никогда и нигде не читал, а в уборной еще меньше, чем где-либо, не мечтал и не размышлял, а только тупо смотрел на календарь, висевший на гвозде на уровне глаз, где был изображен, в цвете, бородатый юноша в окружении баранов, должно быть, Иисус, и раздвигал ягодицы руками, и толкал – раз! ух! два! ха! – с движениями гребца, и не было у меня никакого иного желания, кроме как вернуться в комнату и вытянуться на кровати. Похоже на запор, правда? Или я путаю с поносом? Все перемешалось в голове, кладбища и свадьбы, и вариации стула. Вещей было немного, они свалили их на пол, перед дверью, я все еще могу представить себе эту кучу в заполненной глубокой тенью нише, отделявшей коридор от моей комнаты. В этом крошечном пространстве, лишь с трех сторон закрытом от взглядов посторонних, мне и предстояло сменить домашний халат и ночную рубашку на выходную одежду, то есть носки, туфли, брюки, рубашку, пиджак, пальто и шляпу, надеюсь, я ничего не забыл. Прежде чем покинуть дом, я попытался открыть другие двери, поворачивая ручки и толкая, но ни одна не поддалась. Если бы мне удалось найти открытую комнату, мне кажется, я бы там забаррикадировался, выкурили бы меня только газом. Я ощущал, что в доме, как обычно, полно людей, но никого не встретил. Наверное, все, насторожившись, закрылись у себя. Потом, при звуке захлопнувшейся за мной входной двери, каждый бросился к окну, остановившись в шаге от проема, надежно укрытый шторами. А потом внутренние двери в доме распахнулись, и все вышли из своих комнат, мужчины, женщины и дети, и тут возникли голоса, и вздохи, и улыбки, и руки, и ключи в руках, и шумный выдох облегчения, а потом раздались быстрые слова приказов и распоряжений – если так, то эдак, но если эдак, то так, – воздух наполнился праздником, всем все стало понятно, к столу, к столу, комната может подождать. Сценка, конечно, разыгрывалась в моем воображении, ведь меня в доме уже не было. Все прошло, возможно, иначе, но какое имеет значение, как проходят те или иные вещи, коль скоро они проходят? Вообразить себе все губы, целовавшие меня, все сердца, любившие меня (ведь любят сердцем, не так ли, или я что-то путаю?), все руки, игравшие с моими, и умы, чуть мной не овладевшие! Люди – действительно странные существа. Бедный папочка, он, должно быть, чувствовал себя совершенно оплеванным, если только он мог меня видеть, видеть нас, оплеванным за меня, я хочу сказать. Если только, в великой своей бестелесной мудрости, он не заглядывал дальше, чем его сын, чей труп тогда еще не был вполне готов.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
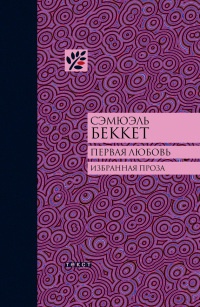


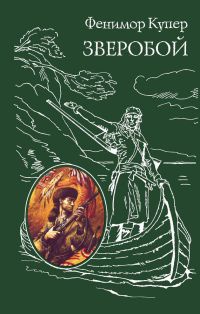
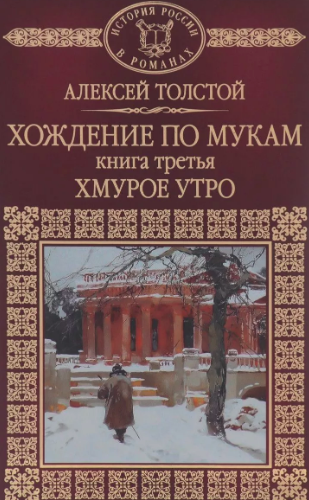
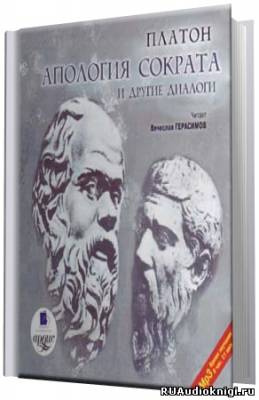
Комментарии