Ванька Каин - Анатолий Рогов Страница 9
Ванька Каин - Анатолий Рогов читать онлайн бесплатно
Но, к счастью, в тот момент Редькина на месте не случилось, и спрашивал Ивана, какое он за собой «Слово и дело» кричал, какой-то из его людей. А Иван ответил, что откроется лишь тому, «кто на стуле с собаками сидит». Высшие судейские чины сидели в присутствиях на стульях, спинки которых украшали вырезанные друг против друга две вздыбленные собачки.
Ему надели на руки и на ноги железа и пихнули в каменный мешок.
— Батюшка, Ванятка! Радость-то!
Сухонький лёгонький старичок в седенькой редкой бородке и в венчике седеньких волос вокруг большой сухой лысины, светясь подлинной радостью, трижды прохладно чмокнул его в грязные исцарапанные щёки, пошептал что-то мужикам, расположившимся в дальнем лучшем тюремном углу, те раздвинулись и дали Ивану место на соломе. Старичок заботливо, под локоть довёл его туда, помог сесть, придержал и устроил кандалы. Кто-то здоровался с Иваном, он отвечал, но видел только старика, которому тоже несказанно обрадовался. А тот уже неслышно слетал к кадке, смочил тряпицу и стал протирать ему лицо: грязь, ссадины, подтеки.
Иван попытался улыбнуться, вышло очень криво — лицо не слушалось.
— Не шевелись!
Быстро, жёстко, умело ощупал его голову, скулы, плечи, руки, грудь, ноги, проверяя, не сломано ли где что, нет ли ран, и всё радостней светился и улыбался, отчего выцветшие сероватые глаза его и переносица оказались в сплошных глубоких весёлых морщинах.
— Гляди, как благ Господь-то, батюшка: и цел, и свиделись! А я уж намедни вконец запечалился, как сюда-то сунули; вдруг, думаю, продержат незнамо сколько, и ты уедешь, и мы не свидимся, и всё сорвётся. Меня как раз намедни сюда и сунули. Драгуны знакомые на пристани признали. На всякий случай, сказали, сунули; греха на мне никакого. А я как раз узнал. Что ты прибыл, и как раз наладился к тебе, к Титу, и как раз их встретил. Столь опечалился! Спасибо те, Господи, за милости, щедроты твои! Спасибо, что не оставляешь нас! Не передумал, батюшка?
И совсем как ребёнка погладил Ивана по голове.
— Как можно!
Прошлой осенью в Нижнем Новгороде они сговорились после нынешней Макарьевской отправиться вместе вниз по Волге, в Жигули, где Иван ещё не бывал — ниже Макарьева нигде ещё не бывал, — но страшно хотел побывать, потому что ни о каких иных местах не слышал столько интересного, сколько об этих горах. И больше всего именно от Батюшки — это (ник) прозвище старика, — причём он говорил, что там есть и какие-то свои тайны, которые можно узнать и понять только там, только увидев их — рассказывать о них невозможно, бессмысленно.
— Ты-то как подзалетел? Такой оглядистый — и на! Снова играл?
Иван опять попытался улыбнуться, и это у него уже почти получилось — боли в лице не было.
— Наскрозь всех видишь?
— Хитрое ли дело, когда ты такой видный и скуки пуще смерти боишься.
— Не боюсь — ненавижу.
— Знаю. Только гляди, как бы люди тебя за такие игры-потехи вдругорядь вовсе не прибили...
Вообще-то старика звали Елисеем. Он просто часто повторял это слово и сам откликался на него. Причём называли его Батюшкой чаще всего очень уважительно. Это в воровском-то люде, где сердечная теплота — штука, как известно, не просто редкая, но и презираемая. Однако было — и вот почему. Давно уж, в молодости, Елисей воровал, лихой, сказывали, был вор, гулял с ватагами по всей Волге от верху до низу, и на Москве гулял, в других городах. А после пропал. Не па один год пропал. Ни среди арестантов, ни среди убиенных, ни среди каторжных никто не видел. Повспоминали, повспоминали, стали забывать, и вдруг слух: кто-то на северной Сухоне с каликами перехожими его встретил, уже седоватого, хотя годами он был ещё не стар. Иван как-то спросил: чего он ходил с цадиками? Ответил: «Жизнь глядел. Молился по святым местам». Потом снова объявился среди воров на Волге, только сказал, что в воровстве больше не участник ни в каком, ни под каким видом, а может кашеварить в ватагах, сторожить, пособлять, когда кого ранят или кто занеможет, или ещё чем житейским пособлять, а главное — будет молиться за них, за всех разбойных воровских людей, — затем и вернулся, чтобы молиться, ибо никто ведь в целом свете нарочито за них не молится, и известно почему: нарушают Божьи заповеди открыто, но за тех-то, кто нарушает их закрыто, во всех церквах молятся. Так он говорил, такой дал обет, и даже мужики в годах не помнили, когда это началось и когда он был моложе, а всегда знали сухонького лёгонького седенького Батюшку, которого всенепременнейше встретят на Волге, или у Макария, или в Нижнем, или в Жигулёвских Подгорах у остроносых ватажных ушкуев, и он беспременно скажет каждому что-нибудь заботливое, ни за что не покорит, ни за что не посетует, не будет наставничать, а в урочные часы будет шептать молитвы, и от самой близости, от самого присутствия этого светящегося сединой старика на душе отчего то станет легко, покойно, тепло.
Да исправится молитва моя, яко кадило пред Тобою, воздеяше руку моею жертва вечерняя... Не уклони сердце моё в словеса лукавствия...
Иван спрашивал его:
— А не грех это — за нас, за таких молиться-то?
— Сам, батюшка, рассуди. Кто на Руси не тащит? Кто пройдёт мимо того, что можно хапнуть? Холоп? Солдат? Купец? Боярин? Нищий? Так нищему нечего есть, и они меньше всех и тащат, ибо самые совестливые, потому Христовым именем и живут. А боярин, приказной или купец — рази тоже голодны, рази им плоть прикрыть нечем? Однако же тащат. Ради чего? Ради возвышения, возвышения, воз-вы-ше-ни-я! А оно рази не грех? «Человек яко трава дние его, яко цвет сельный, тако оцветёт», а они — гребут, гребут! А все проклятья только в воров открытых, в нас. А мы что против остальных-то: пшик, толика. Ить не по-божьи это.
Про всеобщее воровство Иван, конечно, думал не раз, а вот слова «открытые воры» и чуть не одобрение им слышал тогда впервые, и это страшно ему понравилось и легло в душу навсегда.
— Полагаешь, помогут открытым твои молитвы?
— Беспременно! Великое заступление печальным еси.
— Отчего ж проклятья-то только нам?
— От того, что тащим нахрапом, в открытую, и не видеть этого не можно и не блажить караул тоже не можно. А там сделал вид, что ничего не видишь, и вроде и вправду ничего такого не деется.
— Сами себе лгут?
— Лгут. Господь, конечно, всё зрит, и там им воздаётся. Но и нам же воздаётся, ибо грех наш тоже велик, агромаден. Но они-то, хоть и не все и втайне, но всё ж каются, молят Господа втихую простить их и помиловать на Страшном своём суде и жертвуют многие на храмы. А из наших кто молит, кто жертвует? Ты молишь? — Иван усмехался. — Вот! Нельзя так. Хоть я взову маленько. Ибо блажены милостивые, яко ти помиловани будут...
И ещё Иван спрашивал Батюшку, почему он так привязан к Волге, сколько и куда ни уезжал и ни уходил от неё, всегда каждый год возвращается, считай, кинет на ней, но в разных местах. Тот отвечал, что, наверное, потому, что здесь больше всего их брата, лихих людей, без которых он не может быть. Тогда Иван спрашивал: а почему их здесь, на Волге, больше всего то? Добычи много? Макарьевская тут? Но ведь и до Макарьевской их было полно, сам рассказывал, какая была вольница в старину, какие удалые ушкуйники гуляли, струги и барки грабили. Ведь с самого Великого Новгорода приходили. И Ермак почему здесь гулял, а не где ещё? И Стенька со своего Дона именно сюда пришёл, хотя ведь и в Персию, сказывали, ходил, а всё ж опять сюда и именно в Жигулях главное пристанище своё устроил. И нижегородский Костька Дудкин — тут. И черновский Степан Сучков. Да все — тут. Батюшка говорил, что так завелось потому, что Волга — главная дорога Руси, по которой испокон века везут больше всего товаров, а лучший разбой завсегда при дорогах, Иван сам знает. Да, он это знал, но знал и то, что он совсем не самый лёгкий, разбой, грабёж на этой великой реке-то и даже на этой великой ярмарке. Наоборот — в других местах и даже на Москве это делалось легче и безопасней. И ладно счас драгун нагоняют, но ведь и в старину, сказывали, на стругах и барках беспременно с пушками и с пищалями ходили, а на государевых судах и стрельцы бывали непременно, и однако же и Ермак именно тут, и весь Стенька до самого своего конца. Не-е-е-ет, не в дороге тут дело, которая была столь опасной. Иван чувствовал, что тут было и что-то иное, на этой Волге, что она во все времена так неодолимо тянула к себе всех вольных людей. Он ведь тоже уже не мог без неё Не без жалких рублёвиков да поганого серебра, спорые набирал тут — они везде были одни и те ли), не без близких, знакомых до тонкостей харь и морд, которых в Москве сбиралось зимами ещё даже поболе, — а чем-то ещё. Чем? Думал, что, может, ширью водной и земной, похожих на которые больше нигде не встречал, и даже говорил об этом с Батюшкой, и тот соглашался, что да, тоже любит эти шири могучие и не может без них жить, — но всё-таки всё это было не то. Ему казалось даже, что Батюшка знает, но пока таит от него этот главный секрет, и совсем не случайно манит именно в Жигули, где, как сказывали, Стенька даже превращался в оборотня: встретит, оберёт купчину перед горами, отпустит, тот обогнёт их, а Стенька уже там вновь его дожидается, будто по воздуху перелетал на своих ладьях. И про то, как Степан будто бы на кошме уплывал через любые каменные стены, Батюшка рассказывал. И про то, как смерть Разина не берёт по сей день, но он скрывается в каких-то пещерах. Видно, там, в этих Жигулях, Иван и без Батюшкиных слов что-то увидит и поймёт, и когда он почувствовал это, ещё прошлой осенью почувствовал, и всю зиму и начало лета ждал и ждал, сжигаемый сладостным огнём — когда же, когда?!
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.




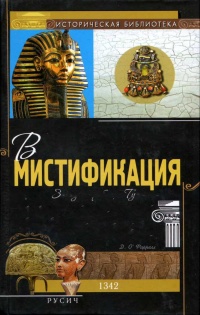
Комментарии