Мертвые - Кристиан Крахт Страница 8
Мертвые - Кристиан Крахт читать онлайн бесплатно
Ознакомительный фрагмент
Себастьян был строптивым альбиносом с красными глазами, и маленький Эмиль любил его с мучительно утаиваемой силой чувства. Хотя приблизиться к нему он никогда не мог, мальчик каждые два-три дня убирал клетку, просовывал кончики пальцев сквозь проволочную сетку маленькой дверцы – и его опять кусали, – часами сосредоточенно созерцал подрагивающие усы на недоверчиво поворачивающемся в его сторону миловидном розовом носике, рассматривал мягкие лапы: как они передвигают пищу. Эмиль мечтал, что когда-нибудь погладит пушистую шерсть Себастьяна, обнимет его и будет ласкать; он приносил ему целыми охапками листья одуванчика, собранные на лугу, однако никакой возможности сближения не предвиделось, если не считать наивной, наверное, мысли, что с этим животным нужно обращаться любовно, и тогда заяц в один прекрасный день ответит на выказываемую ему любовь.
Заячья клетка отвратительно и резко воняла – той едкой сильной вонью, что присуща экскрементам животного; маленькие темно-зеленые кормовые палочки, которые мать приносила домой в пакетах из оберточной бумаги и которые Эмиль – на пробу, чтобы почувствовать их вкус, – засовывал себе в рот, неоднозначно и отдаленно напоминали каучук. Себастьян их, тем не менее, ел: нежные, свежие одуванчики или дешевый прессованный корм – зайцу это было без разницы; однажды соседская кошка прокралась в родительский сад, и Эмиль открыл дверцу клетки, чтобы его Себастьян обрел товарища по играм. Но заяц, встопорщив шерсть и издавая убийственно-фыркающие звуки, погнался за непрошеной гостьей по газону, и кошка в паническом страхе ретировалась на свою территорию.
Малышу теперь каждую ночь являлась во сне эта маленькая, треугольная, перемалывающая что-то зубами заячья мордочка; если же он пытался проснуться, то по большей части выпадал из кроватки и лежал тогда на полу, взывая о помощи в безнадежной темноте детской комнаты, не будучи в состоянии отличить верх от низа и то, что слева, от того, что справа; это замешательство бывало настолько стихийным, что даже когда мать, привлеченная визгом ребенка, прибегала из своей расположенной двумя этажами выше спальни, и хватала хнычущего Эмиля, и встряхивала его, и шептала ему успокоительные, утешительные слова, ей на протяжении долгих минут не удавалось справиться с такой потерей ориентации – ощущаемой на телесном уровне, беспощадной – у плачущего от страха сына.
Ему казалось, будто мать не может к нему проникнуть: будто он парит под водой, навсегда заточенный в полусне ночного кошмара, а мать стоит по другую сторону от мембраны, удерживающей его в плену, и зовет сына, и говорит ему ласковые слова – оттуда, снаружи, – но для него нет никакой возможности когда-нибудь туда вернуться.
Все это, конечно, было полной чепухой! Едва заявлял о себе светлый день, едва кто-то раздергивал в комнате зеленые клетчатые шторы – и знакомый сад, и относящиеся к нему тени благодаря проекции этой спасительной камеры обскура начинали подрагивать на детских обоях, а напечатанные на самих обоях, выстраивающиеся в приятной повторяемости ветки и цветы вишневых деревьев удостоверяли успокоительную панораму горизонта его детских переживаний, – как все страхи рассеивались, изгнанные дружественным утренним светом. Ведьмы опять прятались под его кроватку и на протяжении целого дня больше не осмеливались показаться ему на глаза.
После полудня Эмиль, лежа навзничь на шелковой родительской софе, подкладывал себе под голову подушку и мог часами рассматривать формирующиеся за окном нагромождения облаков; он засыпал, просыпался снова через пару секунд, которые в действительности оказывались шестью часами, и в этом промежуточном мире узнал о своем особом даре: проклясть кого-то, но только один-единственный раз за всю жизнь, – так, чтобы это проклятье стопроцентно исполнилось.
И еще, пока он так лежал, он обнаружил – на среднем отдалении или еще дальше – одно совершенно особенное дерево, которое позже, на протяжении жизни, ему предстояло видеть вновь и вновь; он потом находил его не только в Швейцарии, но и на немецком побережье Балтийского моря, в Итальянском Сомали, в Японии и Сибири, и лишь гораздо позднее, в последней трети жизни, осознал, сидя в этот момент на толчке какой-то уборной, что такое же дерево он увидит в момент своей смерти – не в состоянии помрачения, как его отец, но отчетливо, и при полном сознании, и с ощущением счастья.
Когда однажды он раньше, чем планировалось, вернулся со школьной экскурсии – детей возили к Свято-Беатовым пещерам на Тунском озере, к тому месту, где, согласно преданию, этот монах-отшельник громко провозглашенной молитвой заставил некоего красного дракона убраться вниз, в озеро, – клетка Себастьяна оказалась пустой.
Эмиль, всхлипывая, пробежал по саду, выкликая имя своего зайца, затем обыскал сперва весь дом, потом – маленькую улочку, по дуге впадающую в другую, побольше; а когда он начал изготавливать объявления с поспешно, но тщательно нарисованными на них кроликами, которые собирался расклеить по соседству, появилась мать и тихо сказала ему: мол, доктор Нэгели схватил зайца за уши и отнес соседям, простой крестьянской семье, которая еще в тот же вечер убила животное и содрала с него белую шкурку, ну и что тут такого, этот заяц ведь все равно только кусал его, нельзя было ни поиграть с ним, ни его покормить, поэтому так, как получилось, все же лучше, и нечего Эмилю смотреть на нее столь печально.
Нэгели сидел в поезде; воспоминание о Себастьяне, в которое он вдруг провалился, длилось не дольше секунды, он вздрогнул, снаружи тянулся мимо окна не поддающийся определению весенний ландшафт, и в этот момент он снова услышал свою мать, которая рассказывала ему – через посредство телефонной трубки, будто обволакивающей голос слоем ватина, – что двоюродную бабушку всегда приходилось держать запертой вне дома, потому что она так сильно кашляла, что никто бы этого шума не выдержал. И зимой и летом бабушке приходилось спать в амбаре, у нее был, наверное, коклюш или туберкулез, и в какой-то момент, не вынеся одиночества, она бритвенным ножом перерезала себе горло. Но как вообще можно жить с этим, спросил он свою мать по телефону, и ему было сказано, что так уж оно получилось. В некоторые моменты у него кусок застревал в горле, стоило ему задуматься о безжалостности и жестокости его семьи.
Много месяцев спустя, когда он уже давно был в Японии, Нэгели – после увлекательного, но и очевидно изнурительного странствия, которое влекло его сперва мимо зеленых, покрытых молодыми всходами рисовых террас, потом по безлюдным, темно-пожухлым холмам, – вдруг, в конце мягко поднимающейся вверх тропы, уже почти полностью вернувшейся под власть природы, увидел перед собой деревянную хижину, само положение которой в ландшафте погрузило его в состояние невыразимо глубокого восприятия совершенной гармонии.
Сосновые леса оставляли свободным мягко зазубренный хребет, наполовину скрытые от взгляда отроги которого терялись в бесконечности, в обусловленной наземным туманом нечеткости очертаний, как если бы они были вырезаны из покрытой пестрыми рисунками прозрачной бумаги. Хижина, которая располагалась в некотором отдалении от Нэгели – впереди и чуть ниже, – казалась совсем хрупкой, обмазанные глиной стены были возведены кое-как.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
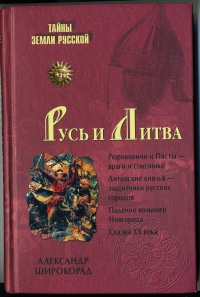
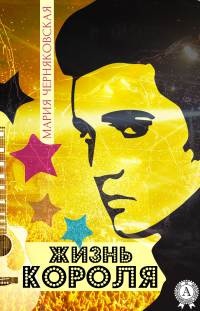
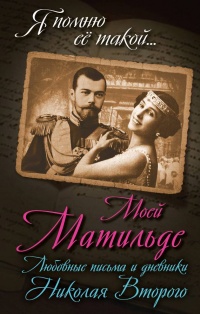
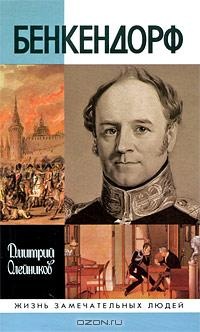

Комментарии