Незабываемое - Анна Ларина-Бухарина Страница 7
Незабываемое - Анна Ларина-Бухарина читать онлайн бесплатно
Но однажды в Дининой жизни случилась беда. В Томский лагерь была заключена молодая женщина — Жилина, по прозвищу Кармен, потому что пела она хотя и неважно, но людям, лишенным всяких положительных эмоций при избытке отрицательных, доставляла радость. Прошли слухи — а слухи в лагере очень любили, — что Кармен была лысая и носила парик. Не скажу, чтобы этот вопрос интересовал большинство из нас, но Дину он заинтересовал. Она, конечно, не могла заподозрить, что у Кармен была лысая голова, как у градоначальника Плюща из «Истории одного города». Наша Дина была очень любопытна. А любопытство от безделья усугубляется, и, когда Кармен шла в своем лагерном одеянии — бутсах и залатанном бушлате — по «Невскому», неожиданно налетела Дина и сорвала парик с ее головы. Легким движением, одной рукой водрузив плачущую, с лысой, как колено, головой, Кармен на свою спину, а другой размахивая париком, словно знаменем, Дина со звонким хохотом помчалась по дороге. Сейчас же подбежал надзиратель и заставил освободить Кармен. За озорство Дина была наказана пятью сутками карцера (холодное помещение, хлеб и вода). Когда надзиратель хотел повести ее в карцер, Дина решила воспользоваться своим единственным преимуществом — силой, стала сопротивляться, и маленький, щупленький надзиратель, вывернувший Дине руку назад, мгновенно оказался на Дининой спине. Так Дина под общий смех женщин донесла дежурного до карцера. Но отсутствие другой тягловой силы спасло ее, и на следующий день она вновь впряглась в свою телегу.
Кроме того, что Дина не была ничьей женой — ни «врага народа», ни его друга, — она отличалась от нас и тем, что была единственной, кому нравилось в лагере, и этим вызывала жалость. Так убого было ее существование на воле, так полно оно было заботами о детях, о хлебе насущном, так тяжка была для нее работа в порту, так безрадостна вся жизнь, что в лагере Дина почувствовала не неволю, а освобождение от житейских тягот и радость беззаботных дней. Весна в тот год выдалась на редкость ранняя, за все двадцать лет моего пребывания в Сибири больше такой не было. Дина ставила свою телегу с упавшими на землю оглоблями под единственные три березы, которые росли в зоне возле кухни (впоследствии и их срубили). Их ветки уже не только набирали почки, но кое-где разбросали нежное кружево чуть распустившихся бледно-зеленых молодых листочков. Как хороши были эти березки, возле которых толпились исстрадавшиеся, мрачные, обносившиеся, еще не все скинувшие свои грязные, серые телогрейки женщины, как они были хороши — на фоне обшарпанных низеньких бараков, затоптанной зоны, из которой, казалось, никогда не выберешься. Дина, закончив непродолжительную работу, ежедневно ложилась в своем лагерном одеянии на телегу под березой: в ботинках из свиной кожи на босу ногу, черной ситцевой юбке, замусоленной, непонятного цвета кофте (новую, доставшуюся ей, одной из немногих, телогрейку складывала вдвое, а то и вчетверо, и подкладывала под голову). Рядом всегда лежала темная матерчатая ушанка. Солнце уже припекало основательно, и на голове ушанка была не нужна. Но Дина заглядывала в будущее: зима впереди, да не одна, а целых восемь («Кто их знает, этих интеллигентов и неинтеллигентов, — пайку-то хлеба сперли», — рассказывала с возмущением Дина). Дине на кухне другую дадут, видимо, думала та, которая украла пайку, Дина голодная не останется. А вот шапку на кухне не дадут, и Дина предусмотрительно ее с собой таскала. Так все ее имущество с ней вместе на телеге лежало. В лагере вещи только обременяют: как этап — тащи их на себе. Но и без них несладко.
Я иногда присаживалась к Дине на телегу. Влекло меня к березкам, да и хорошо, что Дина была молчалива, никогда не спрашивала, как я отношусь к прошедшему в марте процессу, и мне не приходилось ломать голову, не провокационный ли ведется разговор. Ловушки после процесса были расставлены повсюду, да и где мне разобраться, кто какой человек! Уберечься невозможно. А с Диной было легко.
Но вот однажды и Дина разговорилась:
— Что ходишь сюда, скажи, жалеешь меня, что ль? Не жалей, не надо. Ты свою жизнь жалей, а мне тут неплохо. Дети в детдоме, во-первых, сыты, — и она правой рукой загнула палец на левой, — во-вторых, одеты, — загнула второй, — в-третьих, обуты, — загнула третий палец.
— Ты даже по детям не скучаешь, Дина, и свободы тебе не жаль?
— А какая там свобода! С утра до ночи в порту. Да я и детей почти не видела.
— А почему ты не училась, Дина?
— Почему не училась?.. Советская власть головы не дала, — рассмеявшись, ответила Дина. — Пробовала даже, не получилось. Я тебе еще раз скажу, не болей за чужую свободу, болей за свою. Не болей за чужих детей. Если у тебя есть свои, болей за них А вот зачем ты себе мужа врага выбрала, такая дивчина? Он-то, говорят, настоящий враг. У-у-у — лютый враг!
А я-то думала, она не знает, кто я. Меня словно кипятком ошпарило. Я спрыгнула с телеги и хотела бежать. Я ничего не могла ей ответить!.. Но Дина задержала меня своей большой сильной рукой и сразу изменила тон разговора.
— Знаешь, разное о нем балакают: и что он шибко умный был, а это смерть — шибко умному быть; чуть больше моего надо — и хватило бы. Ну даже что с самим Лениным работал, слыхала. Ну, может быть, это бабья брехня, но видать-то, наверно, видал его. Хоть разок видал, а? — спросила Дина с любопытством. И я за долгое время впервые улыбнулась.
— Не рассказывал он мне об этом, может, и видал разок, но кто с тобой балакает, Дина? Набалакаешься и в беду попадешь!
— Со мной-то кто? Да кто со мной говорить будет. Лежу здесь да слышу всякую болтовню: про то, про се…
Это был мой последний разговор с Диной, но до сих пор я ее вспоминаю.
Об этом разговоре я тогда решила рассказать своей любимице — Виктории Александровне Рудиной. Сарра Лазаревна Якир и я познакомились с ней в Свердловской пересылке, куда мы прибыли этапом из Астраханской тюрьмы через Саратовскую пересыльную, она же — из московской Бутырской.
Саратовский каземат показался мне пострашнее Петропавловской крепости, наверное, потому, что в Петропавловской я была с отцом в качестве посетителя музея, хотя, может быть, в двадцатые годы музей еще и не был открыт, а Ларину было разрешено туда пройти как бывшему узнику. Привел он меня в ту самую камеру, где сидел до революции 1905 года. Длинный коридор Саратовской тюрьмы с затхлым, потерявшим прозрачность дымным воздухом казался адом. Шум из камер еле-еле проникал сквозь толстые двери. Слышался только звон ключей, висевших на поясах у надзирателей, да грохот открываемых засовов. И надзиратели были там почему-то особенно злые. Но, как ни тесно было в Саратовской пересылке, в камеру нас все-таки втолкнули. В одном лишь отношении было легче в пересыльных тюрьмах, чем в следственных, — мы ошибочно полагали, что судьба наша решена окончательно, и напряженность ожидания исчезала.
Свердловская же пересылка отличалась от других тем, что заключенные уже в камерах не помещались ни на нарах, ни под нарами, ни между нарами — поэтому нас поселили в коридоре. Коридор неширокий, светлый, так как «намордников» на окнах не было, и очень холодный. Расположились мы с Саррой Лазаревной Якир на полу, постелив байковое одеяло Николая Ивановича, а более теплым, шерстяным, якировским, — накрылись.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.


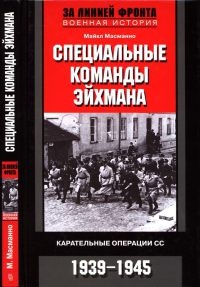


Комментарии